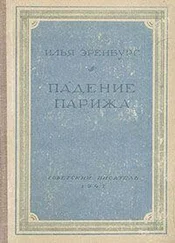В долинах текли бурные реки, они текли испокон веков: Томь, Кондома, Тельбесс. Весной они росли, а в долгую зиму тяжело дышали под толстым льдом. У каждой реки было свое русло. Реки текли среди леса. Они знали перелетных птиц, выдр и белок. Они знали токование глухарей, течку медведицы, звериную страсть и гогот диких гусынь, которые выводили свои крикливые выводки. Людей реки не знали. Люди пришли в спокойные долины. Они угрюмо глядели на светлую воду. Они мерили, чертили, высчитывали. Потом инженер Литовский пососал погасшую трубку и сказал: «Придется отвести».
Люди отодвинули от себя тайгу. Они захотели также переменить ход рек. Кондома текла не на месте. Надо было построить два моста. Люди решили убрать Кондому в сторону. Литовский поехал в Кузнецк. Его план был одобрен. Строители начали насыпать дамбу. Эта дамба была длиной в километр.
В весеннюю ночь зазвенел лед, а час спустя зазвенел телефон над ухом Маркутова. На дамбе гудел колокол. Бежали отовсюду люди, и, как вспугнутые светляки, метались среди гор сотни фонарей.
Утром рабочие стояли на берегу. Они угрюмо переминались. Федоров сказал: «Полезть-то просто, а ты попробуй — лед! Умирать никому не хочется…» Тогда подошел Колька с товарищами.
Кондома рвалась в свое старое русло. Весна принесла ей силы. Она отыскала лазейку и начала промывать себе путь.
Колька первый полез в воду. За ним пошли и другие. Петька Ножнев не выдержал и закричал: «Ой и холодная!» Колька сказал: «А ты не стой на месте! Подавай мешки!» Они выстроились цепью и стали передавать мешки с землей.
С комсомольцами работал партизан Самушкин. Он сидел в конторе, когда пришел Шухаев и сказал, что с дамбой неладно. Самушкин сейчас же побежал к реке. Всю ночь он, угрюмо поругиваясь, таскал мешки с землей. Увидев комсомольцев, он просиял. Он стоял в ледяной воде и мурлыкал под нос старые партизанские песни. Колька сказал ему: «Ты это, Самушкин, зря! Нам ничего — мы молодые…» Самушкин усмехнулся. Ему было за пятьдесят, но он никогда не думал о своих годах. Он ответил Кольке: «Старые на печи лежат. А если я здесь, значит, и я молодой».
К вечеру люди победили реку. Река смирилась, она пошла туда, куда ее пускали люди.
Колька позвонил Маркутову: он обещал ему дать подробный отчет. От холода Колька охрип и с трудом говорил. Он сказал Маркутову: «Сделано. Ты меня хорошо слышишь? Ну вот, значит сделано. Шухаев мне сказал, что надо остаться здесь. Черт их знает! Здесь оползни. Ребята не управляются. Понимаешь, для зарядки. Народу здесь много, а с комсомольцами ерунда. По-моему, Ванюшин совершенно разложился. Я-то хорошо слышу. А ты? Это я осип — говорить трудно. Ну, ладно, завтра еще позвоню. Слушай, Маркутов, к тебе дело. Личное. Ты Ирину знаешь? Нет, нет, мою. Коренева. В ФЗУ. Так ты ей скажи, что все благополучно. А то я уехал ночью — не успел проститься. Значит, завтра еду в Темир. Пришли газеты. Да смотри, не говори Ирине, что я без голоса, она, чего доброго, испугается. Ну, пока!»
Шухаев, ухмыляясь, сказал Крицбергу: «Я этого Ржанова отвоевал. Пусть он теперь у нас поработает. У них в Кузнецке благодать. Прямо тебе Москва. Концерты устраивают. Честное слово! А здесь настоящего народу мало. Чуть что — сразу паника. Пусть он наших ребят поджучит».
К Первому мая начали готовиться задолго. Колесникова обещала выступить с революционной декламацией. Она становилась в коридоре и неожиданно начинала повизгивать: «Мировой Октябрь, ты раздул огни!..» Сема Плихов набрал бригаду гармонистов. Они репетировали по вечерам возле бараков, и Шухаев мучительно морщился: «Ну и уши у них!..» Овсянникова раздобыла белой муки, масла, яиц. Она сказала мужу: «Я кулич испеку». Овсянников рассердился: «Что это тебе, пасха? Это день пролетариата! Здесь надо речи говорить, а ты с куличами…» Овсянникова ответила: «Речь речью, а кулича поесть каждому приятно. Раз теперь нет пасхи, значит, самое время куличи печь». Овсянников подумал и тихо сказал: «А изюма-то нет…» Строители собрались на опушке леса. Рядом была тайга, огромная и непроходимая — такой она слыла прежде. Строители знали, что они пройдут и через эту тайгу.
Колька посмотрел вокруг себя: на деревья, на первую траву, на кустарник, покрытый пухом. «Черт возьми, вот и весна!..» Все эти недели он работал, не покладая рук: он боролся с весной. Теперь впервые он ей улыбнулся. Он сказал Лешке: «Здесь, наверно, птиц много. Вот бы послушать!..»
Тогда вышел Сема Плихов с гармонистами. Они поклонились и сыграли «Интернационал». Пришла Овсянникова со всеми своими детишками. У ребят на груди были большие красные банты, и Николаева в зависти зашептала: «Это она флаг стибрила в красном уголке, честное мое слово!» Чернобаев пришел в новеньких калошах, хотя на дворе было сухо. Сема спросил: «Ты что это, одурел? Или ревматизм у тебя?» Чернобаев презрительно сплюнул: «Это для самого шика, потому — праздник. В Москве все так ходят».
Читать дальше