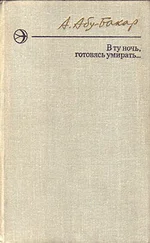Впрочем, по-арабски ни писать, ни читать он не умеет…
— Я, кажется, вспотел… — сказал больной, поев хинкала.
— Это хорошо! Значит, твой организм еще восприимчив к приятному, старик! — заметил Хамзат.
— Зулейха, будь добра, — обратился к хозяйке больной, — собери кости и брось нашей собаке, пусть не воет так протяжно и уныло… А я пока передохну немного…
Ну что ж, раз мой молодой друг говорит, что пока нет ничего страшного, — поверим ему. Надеюсь, он не даст раньше времени постучаться смерти, да и я стараюсь не покориться болезни и выдержать до конца, как тот скакун, что, загнанный, падает замертво перед самыми воротами…
С вашего разрешения, продолжу рассказ…
Настало в Дагестане время, когда горцы в доверительной беседе говорили:
— Люди живут неплохо, я вот по себе сужу и по своим односельчанам. Есть хлеб, есть во что одеться, есть работа, есть заботы, в семью приходишь, не стыдясь, что, мол, хурджины пустые, как бывало; дети учатся, жена дома хозяйничает, а ты не скитаешься, как прежде, а работаешь в своем ауле, не тревожась о куске хлеба для детей. А завтра, если все будет благополучно, — дай, аллах, чтоб все было спокойно, — жизнь станет еще лучше. Ни дед, ни отец не знали, что бывает нижнее белье, что такое белая постель, не было у них лишней комнаты, а вот я перестроил саклю, правда, не так, как хотелось бы, силенок не хватило… Но ничего, придет еще время… Только б не было войны!
Как я не раз замечал, даже большая радость почему-то настораживает горца: то ли еще не выветрился из него дым суеверий, то ли привык народ к переменам да лишениям и стал сомневаться в постоянстве счастья.
Необычайно начался тот год: щедрой, многообещающей улыбкой. Не помню другой такой яркой, теплой весны. Не могу позабыть День первой борозды — кубах-руми, — давно позабытый и возрожденный обычай. Мугринцы достали из сундуков самое нарядное и яркое, что накопили. Уроки в школе отменили. Все, взрослые и дети, собрались в Долине горячего родника, что некогда принадлежала все тому же Ибрахиму из Уркараха. Запряженные в деревянный древний плуг с железным наконечником быки с красными бантами на рогах и хвостах ждали на краю поля пахаря, которому народ доверил провести первую борозду этой весны. И эта честь выпала самому старому жителю Мугри, которому уже перевалило за сто лет. Сам он, конечно, не помнил уже, когда родился, и возраст его определили по рассказам старика о знаменитом алиме — ученом из Мугри, по имени Хаджи-Саид, что уехал в чужедальнюю страну Мисри (в Египет) и оттуда присылал землякам весточки с перелетными ласточками… В тот день колхоз пожертвовал двадцать три барана на общее угощение и детям и взрослым.
Так же нарядно и щедро в ту весну отпраздновали встречу чабанов, что пригнали отары с зимовки в Ногайских степях.
Любовно возделанная земля обещала в том году обильный урожай. И погода стояла отличная: казалось, даже аллах был в добром настроении. Пышно цвели плодовые сады. Да что там: цвели леса диких плодовых деревьев и кустов — груша, яблоня, смородина, малина. Обильно цвел даже орешник, что по старому поверью предвещает беду. Небывалые были травы на лугах и пастбищах, чабаны радовались приплоду. Даже курица у нашей соседки целую неделю сносила по два яйца в день. Всему радовались горцы, но и говорили со страхом, что, наверное, надвигается беда…
И беда постучалась в сакли горцев в самый нежеланный час, когда все наливалось соком, все румянилось и зрело под щедрым солнцем и дожди шли будто по заказу…
Прогудела по проводам, пронеслась черной тучей по горам весть о войне. И все вокруг словно бы притихло, как утихают лес и поле перед грозой, люди призадумались, подобрались. «Да, — говорили они, — некстати! Потерпел бы этот изверг до зимы, дал бы собрать дары щедрой осени…»
Первое время я думал, что явно промахнулся немец и будет легко уничтожен: видно, передалась и мне уверенность большевиков в своей силе, которой были полны даже дети.
И еще думал я по старой привычке: какое, мол, дело горцам до того, что немец стал воевать с Россией? До наших гор все равно не дойдет… И с великим удивлением понял, что ошибся. Годы новой власти изменили душу горца. Прежде он называл «родиной» свою саклю, свой аул, а уж если широкой была его натура, то — дагестанские горы. А теперь понятие родины необъятно разрослось для горца: и добрый урожай пшеницы на полях Украины для него часть родины, и бои под Хасаном для него бои за родину, и метро Москвы, и хлопок Узбекистана тоже родные… Горец понял, что раз так необъятно выросла его родина, то возвеличен и его долг. Теперь он чувствовал себя ответственным не только перед семьей и саклей, перед аулом, перед своей маленькой республикой, но перед всем огромным Советским Союзом.
Читать дальше