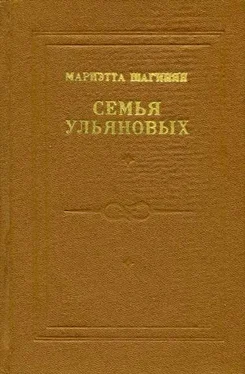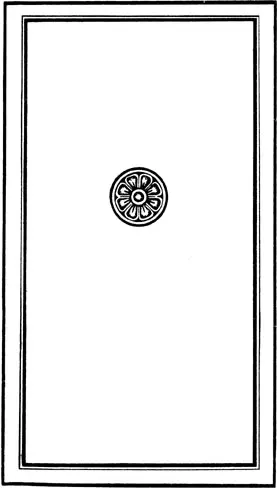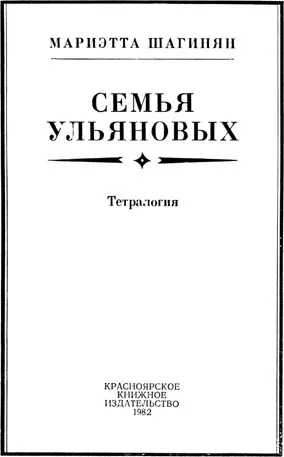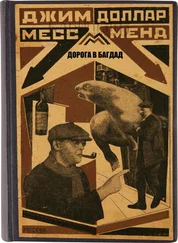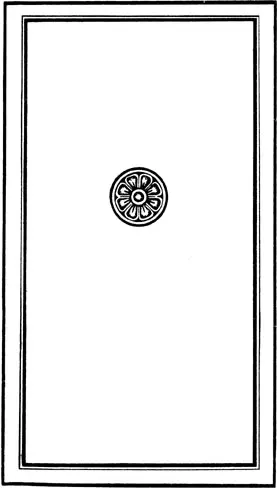
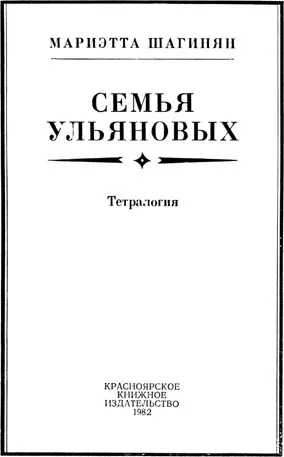
II
ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
Роман-хроника
Глава первая
«ЗАТЕЯ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ?»
1
За два месяца до рождения Владимира Ильича, — а именно 10 февраля 1870 года, — министр народного просвещения граф Дмитрий Толстой сидел у себя в служебном кабинете. Слева от него лежала пачка документов, уже составивших то, что на языке департамента называется «делом», хотя и представляет собою чаще всего только бумагу. Справа, в красивой вазочке, белели своими хвостиками тонко обчищенные гусиные перья. Хотя уже всюду, в том числе и в его министерстве, вводили в обиход стальные перья, министр любил, особенно для черновиков официальных писем, употреблять гусиные. Почерк у него был мелкий и женственный. Почтовая бумага для личных нужд — заграничная, цветная и тоже мелкого дамского формата. Но сегодня перед ним лежал казенный бланк, и на казенном бланке министр принялся поскрипывать гусиным пером:
Господину Главному Начальнику III Отделения собственной Его Императорского Величества Канцелярии…
Письмо было длинное. Во время писанья он приподымал большой палец левой руки, придерживавшей на столе пачку документов, высматривал в них уже готовое, нужное ему, слово или выражение и опять опускал на них палец, словно зажимку. К концу письма на лице его проступило то неискреннее и двусмысленное выражение, когда думаешь одно, а делаешь другое. Окружающие знали это выражение на лице министра, и смельчаки, в тесном чиновничьем кругу, даже, случалось, мимицировали его. Это выражение называлось в департаменте: «Лично я — против».
Граф Дмитрий Толстой писал:
Признавая весьма полезным осуществление вышеизъясненного предположения Общества любителей естествознания, я, предварительно какого-либо по сему распоряжения, долгом считаю обратиться к Вашему Сиятельству с покорнейшей просьбой почтить меня уведомлением: не встречается ли с Вашей, Милостивый Государь, стороны препятствия к устройству означенной…
Тут был целый клубок лицемерия, совершенно ясный для писавшего и для адресата.
Во-первых, министр органически не переваривал любителей естествознания — и скопом и в одиночку: лишь недавно он в борьбе отстоял и ввел новый устав для российских гимназий, где порядком урезал в пользу классики часы, раньше отводившиеся для наук о природе. Он отлично осведомлен был, как действовало естествознание на религиозные воззренья гимназистов и студентов и кто именно из бунтовщиков, атеистов, вредных для Российской империи деятелей, заканчивал именно этот факультет. Когда перед ним, в своем кругу, кто-нибудь рисковал защищать науку о природе, ссылаясь даже на Лукрециево «De rerum natura», он поднимал брови: а Герцен? а Писарев?.. И явно не мог поэтому признавать «весьма полезным» любое начинание Общества любителей естествознания.
Во-вторых, фраза «предварительно какого-либо по сему распоряжения», в переводе с канцелярского на человеческий язык означавшая «прежде чем что-либо сделать самому», — была просто обоюдным обманом. Хорош был бы министр, если б вздумал не распорядиться, а начальник III Отделения — усмотреть препятствия в деле, на которое сам государь повелел отпустить из сумм министерства государственных имуществ две тысячи рублей, а все великие князья уже состояли в почетных членах этого «выше изъясненного».
И в-третьих, наконец, и сам граф Толстой, и все III Отделение, добавившие еще один документ к распухавшему делу, — если б могли, задушили его в зародыше, как и много подобных дел, разводивших только лишнее беспокойство на Руси и подкапывавших ее устои…
Министр позвонил, и чиновник принял из его рук исписанный бланк. На таком же бланке «департамента по делам ученых учреждений» писец размашистым почерком переписал все послание, в конце которого министр поставил свою подпись. После этого бумага пошла ходить по кабинетам министерства, получила свой номер — 1490 — и обрела действенную плоть официального документа.
Но что же это было за «означенное» и «вышеизъясненное», что министр, скрепя сердце, признал «весьма полезным»?
Оно зародилось в головах милейших и очень уважаемых людей, профессоров и ученых, после успешно организованной несколько лет назад Этнографической выставки. На этой выставке, не говоря уж об ее успехе у широкой публики, ученым удалось встретиться и завязать связи со своими коллегами из других стран и особенно из Австрии, называвшейся «лоскутной монархией» именно в силу этнографической пестроты ее населения. А в результате выставки возник в Москве такой нужный музей, как этнографический, получивший прозвание Дашковского.
Читать дальше