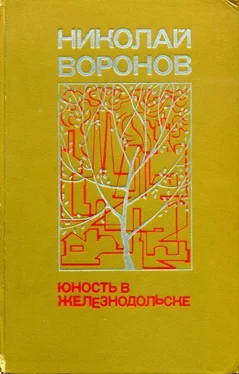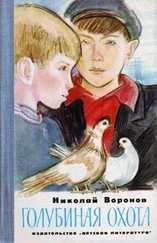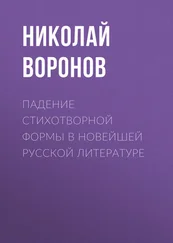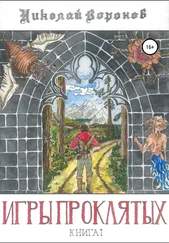— Дети они, Корояни. Чистые.
— Всех ты, Кланя, по себе меришь.
— Замолкни.
Я улизнул за будку. Туда неторопливо пришла Валя. Расстроенно крикнула: «Да ну их!» — и протестующим движением отмахнулась рукой, как оторвала что-то, накинутое на нее. В тот же миг к Вале вернулось прежнее настроение, и мы пошли вниз по участку, разговаривая о Кланьке, о строгости ее и доброте и немножко огорчаясь ее странному желанию быть как парень. Мало того, что Кланька одевалась «по-мужчински», — она курила, училась боксировать. Она приказывала парикмахеру Моне стричь ее под бокс. Моня кручинился, грустно покачиваясь, но стриг так, как она велела, и даже выбривал ползатылка. Моя мать, уважавшая Кланьку и щедро угощавшая ее, когда она заходила к нам в гости, сердилась при виде ее обкромсанной головы, а бабушка Лукерья Петровна отплевывалась и шепотом просила пресвятую матерь-богородицу наставить Кланьку на путь.
— Не хочу быть женщиной, — говорила Кланька, облокачиваясь о стол и выпуская папиросный дым из ноздрей и рта. — Хочу полной свободы. Вот ты, Мария. У тебя сын. Зависимость. Я решила: не будет у меня такой зависимости. Мужчине легче сохранять свободу. В семье он вроде владыки. Я хочу по свету колесить. Набор какой-нибудь в Арктику — приду, и меня возьмут. Ничем я не хуже мужчины. Вот если ты, Мария, явишься — кудри плойкой наверчены, щеки напудрены, губы подкрашены — тебя выпроводят. О тебе заботиться надо, условия тебе создавать. Мне никаких условий. Наравне с мужчинами.
— Природа у тебя женская, Кланя, и не перешагнешь ты через нее.
— Запросто.
— Сама будет проявляться.
— Не позволю.
— Ты не позволишь — мужчины позволят.
— У меня не очень-то...
В разговорах мы с Валей добрели до моего барака. Все окна были провально темны, но неспокойны — то метнутся по ним электросварочные сполохи, то потекут по стеклам кровавые отсветы близкого шлакового зарева.
Час такой, когда детвору, даже самую неугомонную, сморил сон, когда ночная смена уже вся прошла на завод, а вечерняя еще не возвращается. Домохозяйки, которым придется потчевать поздним ужином своих шагающих из цехов кормильцев, прикорнули прямо в одежде на неразобранных кроватях, чтобы мигом вскочить, заслышав сквозь забытье поступь родного человека по коридору, — тогда дверь с крючка, фуфайку с кастрюли, солонку на стол!
Час промежуточной тишины. Но эта тишина сродни предутренней глуши: всякий звук чеканный, как монета в роднике.
Мы стоим и слушаем ночь. Где-то, будто в земном брюхе, что-то катается. Тяжелая это катка — в гулах, в дрожащих сжатиях, в стуках, от которых подергиваются комбинатская низина и горы. Сквозь катку — шелест и грохот железа, откусывание чем-то огромным чего-то твердого, крепкого. А едва гаркнет паровоз «Феликс Дзержинский», или взбурлит воздух сифонящая «овечка», или просигналит морозно-бодро «эмка» — сразу как будто оборвутся звуки завода, доходящие до нас снизу, и чудится, что они сглаживаются, растекаются, глохнут в земной глубине. Мощный, ровный шум комбината исчезает и при гоготе пневматических молотков, клепающих раскатистый котел, и при пушечных выхлопах газа, регулирующего давление меж загрузочных конусов домны, и от ступенчатого грома порожних вагонов, когда толчок паровоза передается из конца в конец поезда.
Сладко слушать ночь. Вызвездило, снега пока светлы, ветры угомонились. И потому еще сладко слушать ночь, что со мной слушает ее Валя.
Не хочется расходиться по домам. В душе нежность! Но я так, наверно, и уйду, не зная, как ее выразить, и стесняясь ее обнаружить.
Валя сказала, что ей пора уходить. Я поднялся было на крыльцо, но увидел, что она не тронулась с места, и спустился к ней. Мы пошли обратно. Я вспомнил, что принял именины Вали за поминки по ее отцу. Спросил, где он, ее отец. Валя не знала. За ним приходил дядька в кожаной фуражке. После этого месяцев через пять была записка, несколько слов: люблю вас всех, вернусь, тогда заживем. Валя верит: отец у себя на родине, переправился туда для подпольной борьбы с польскими фашистами, а теперь будет бороться и против германских. Кое-кто в бараке судачил о другом... Глупости! Ее отец революционер и бежал из-под расстрела, когда власть в Польше захватил Пилсудский! Ее отец за народ, за советскую власть.
Я сказал Вале, что помню, как однажды она пришла в школу с заплаканным лицом. Она спросила, почему же я не подошел к ней и не спросил, чем она опечалена. Я напомнил, что подходил, но она прикрикнула на меня и разревелась. Валя этого не помнила и, чтобы я не рассердился, провела белой кроличьей варежкой по моей щеке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу