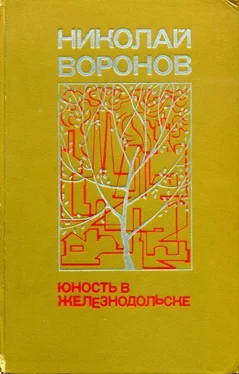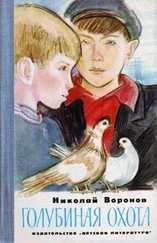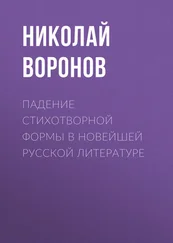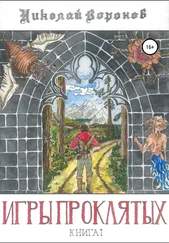Я нес в будку морковь приблудившемуся крольчонку, а Владимир Фаддеевич шел откуда-то, держа под мышкой фанерный ящик. Владимир Фаддеевич крикнул, чтобы я понаведался к нему: посылка от Кости.
Войдя в комнату, я и увидел этот платок: квадрат дымки, а на нем чужое слово «Нюрнберг» и силуэты гор, шпилей, угловато-ступенчатых строений. Кроме того, что был странным для меня в его руках невесомый платок, я углядел еще что-то, чего не определил, но что обеспокоило меня. И едва я присмотрелся к Владимиру Фаддеевичу, то еще сильней встревожился. Поначалу казалось, что он рассматривает призрачный Нюрнберг. Внимание уточнило: не рассматривает. Не похоже, что может рассматривать: страшная незрячесть в глазах. Внезапная слепота? О, нет! Что я? Такая четкость взгляда. Коричневая, промыто-коричневая роговица. И зрачок ясновидяще черный, лучисто-безумный. Тронулся Владимир Фаддеевич...
Крика не было. Он остался в моем ужасе перед безумием во взоре Кукурузина. Косте нельзя погибнуть... Невозможно. Только вчера прислал письмо Вале Соболевской. Уверял, что останется жив. Шутил: «Пули огибают матерых фронтовиков». Валя еще сказала, если Костю убьют, ей нечего делать на свете. Равносильно, как провалиться в тоннель, который завален с обеих сторон. Ребенок... Ему посвятить себя? Мать посвятила себя им, трем дочерям. Спасибо ей. Но разве она была счастлива? Кто даст вторую жизнь? Переселение душ — оно лишь в книгах. Как возник из небытия отец, что-то от счастья опять засияло в матери, как при нем, когда он работал на экскаваторе.
Косте нельзя погибнуть!
Постой. Владимир Фаддеевич плачет! Убили... Я проклинаю вас. Я не прощу его смерти. Мы, русские, отходчивы. И все-таки я не прощу. Нам надо учиться не прощать. И мы научимся. Мы научимся не развешивать ушей. Мы будем настороже. Только попробуйте посметь...
Владимир Фаддеевич, и вы рыдаете. Вы, железный Кукурузин. Вы ведь терялись только от детских слез. Я раскровенил ногу, ревел. Приблизились. Высокий, потом — меньше, меньше ростом, будто у вас свинцовые ноги и их подплавили чуть ли не до колен. Но вы научились з а ж и м а т ь с я от детских слез. И очень многому другому научились: жить вдовцом, проводить возле домны дни и ночи...
Я — гад, Владимир Фаддеевич. Костя был моим защитником и учителем. Я чтил его. А, глупо. Что он, старик? Бывает, люди любят; но не верят, не поклоняются, не считают друг друга лучше всех на земле. Я любил Костю, и у меня в сердце было постоянно чувство: выше его нет. Я плачу. Я не плакал вечность и думал — не смогу. Я плачу и вот-вот засмеюсь. Какой может быть смех? И не смех это, а что-то в его личине. У меня так всегда в печали, в горькой обиде... Стыжусь, что ли? Простите, Владимир Фаддеевич.
Майор Агеносов, переславший личные вещи Кости его отцу («Как чувствовал, что убьют. Все сложил в ящик и адрес надписал»), сообщил, что Костя был убит наповал второго мая в Берлине. Костя ехал на бронетранспортере. Стреляли из особняка с деревянным драконом на крыше. Костя кинулся туда. За фонтаном прятался подросток лет четырнадцати. Этот г и т л е р о в с к и й з м е е н ы ш и ударил по Косте фаустпатроном. Агеносов, выскакивая из кабины другого бронетранспортера, увидел, как из трубы фаустпатрона вылетело пламя и как Костя упал. Когда подбежал к Косте, он уже не дышал — разворотило всю грудь.
Среди Костиных вещей оказался блокнот. Вместо корочек — карболитовые пластинки, бумага школьная, линованная. Записи он вел простым карандашом; сохраняются лучше чернильных.
Навещая Владимира Фаддеевича, я заставал его склонившимся над страницами блокнота, заполненными Костиной рукой, но каким-то непонятным шрифтом, напоминавшим арабский. Почерк у Кости и так был трудный: округло-вытянутая вязь с наклоном влево, а тут еще странная азбука.
Владимир Фаддеевич промучился над расшифровкой азбуки до осени и попросил меня. Может, разгадаю. Я унес блокнот домой. И однажды, когда решил, что не сумею прочесть записей, внезапно заметил в зеркальце (брился и забыл его сложить) отражение строк, написанных русскими буквами. Через мгновение я опять разочаровался: буквы в зеркале разбирал четко, но ни одного слова составить не мог. Вскоре я уже читал записи, сделанные, как я определил для себя, способом вывернутой азбуки — она начиналась с «я». Из блокнота я узнал то, о чем Костя никогда не рассказывал, чего он, наверно по скромности, не затрагивал в разговорах.
К о с т и н ы з а п и с и
Ноябрь 1942 года
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу