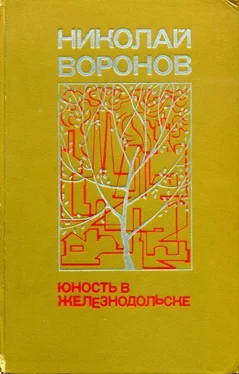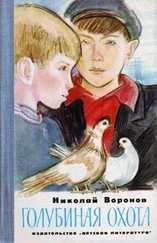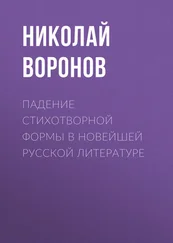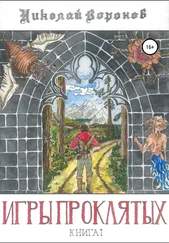Молчание.
— Нет, слышь, не родня мы. Ты прокатился, гуся стрелил. Махан! Я в ремне новые дырки прокручиваю, кабы брючишки не потерять. Не одобряю я таких, как ты. Затмение души у тебя. Производство ты учитываешь, агрегаты, руду, бетон, зерно-овощ, проценты выполнения... Волю только свою ломишь. Желание не спрашиваешь. Потребности не берешь к вниманию. Человек — не механизм: сделать проще.
— Вредные твои взгляды, товарищ машинист. Меня ими не демобилизуешь.
— Погоди, слышь. Сердце заходится. Пусть ты убежденный, а у меня хаос в голове. Однако, слышь, бедствие иль еще что не приму за геройство. Хватит на то умишка. И, слышь, обязанности перед родиной и перед заветами Ильича не хуже тебя знаю.
— По твоему разговору получается — ты патриот и все понимаешь, а я не патриот и бестолочь.
— Про то я и толкую: слушать надо собеседника, разобраться, почему он такие иль иные соображения высказывает. Затыкать глотку — на это мудрости не нужно.
— Давай, машинист, садись на коня. Болен ты, машинист, измотан. Садись, садись. Конь добрый, не скинет. Да ты, видать, ездил в седле! Кавалерийская посадка! Ты на полную справедливость, машинист, претендуешь, а ведь шибко промахиваешься. Не перебивай. Довольно! Ты гуся увидел... барство, махан. Я нервы успокаиваю от фронта. Проедусь, поохочусь — полегче. Не споры-раздоры теперь нужны. Обоюдность, дисциплина. В сложностях после войны разберемся. Правильное сильней утвердим, ненужное отрубим.
Раздался свист. Петро задержал иноходца. Суходолом бежал я. Полы шинели пластались за спиной. Чуть позади бежала Лена-Еля, Фекла отстала от нас, заметно перекашиваясь туловищем, оступаясь на хромую ногу.
Объездчик сдернул с плеча двустволку. Петро крикнул, чтоб я остановился, но я не послушал его. Тогда Петро преграждающим жестом выкинул ладони, и я встал — правда, больше из-за недоумения: как Петро оказался на коне? И что-то страшно знакомое поразило меня в лице объездчика, каком-то испитом и странном.
Всего ожидал Петро, но того, чтобы я и объездчик внезапно бросили ружья, кинулись друг к другу, обнялись — этого никак не ожидал. Лене-Еле показалось, что мы схватились врукопашную. Фекла, которую согнула одышка, пропустила начало этого неожиданного события. Когда она подняла голову, четыре человека стояли около лошади и чему-то радостно удивлялись.
— Маленького он тебя любил! — говорила мать. — Посадит на ладошку и носит высоко-высоко.
Я верил ей, хоть и не помнил этого. Но, веря матери — она никогда не обманывала меня, — я почему-то хотел убедиться в этом, заодно и в том, скучает ли он по мне.
От Шестого участка, находившегося на задах доменного цеха и коксохима, осталось всего-навсего два шлакоблочных барака. В том, который утыкался своим тамбуром в железнодорожную насыпь, жил (по его выражению, к у к о в а л) отец, пока не переехал в город Усть-Каменск. Я изредка появлялся на Шестом. Обратно уходил понурый. Всегда-то получалось, что я приходил не вовремя: устал отец или в таком настроении, будто накануне какой-то беды. Сетовал на воздух — нечем дышать, на плохое снабжение, на безденежье. Чужая тетка, его новая жена, стрелочница Александра, и та все-таки спросит меня, как учусь, с кем дружу, бьет ли меня бабушка. Отцу ни до чего дела нет.
Железнодольск он покинул неожиданно. Бабушка уверяла, что он бежал от алиментов. Может, и так. Мать через милицию посылала на розыск. Через несколько месяцев сообщили: он в Усть-Каменске. И меня туда потянуло к отцу — увидеть, попытать прежнее.
В день моего приезда он переходил с квартиры на квартиру. Его имущество уместилось в круглобокий фанерный баул и в солдатское одеяло, завязанное крестом. В Усть-Каменске он развелся с Александрой потому якобы, что она продала хромовые заготовки, которые он купил, собираясь отдать в перетяжку сапоги. Мои приходы на Шестой были для Александры как праздник. Переоденется у соседей в цветастое сатиновое платье, в коричневые туфли с пуговкой, лепит пельмени, поет. То, что отец ушел от Александры, меня потрясло. Очередная женитьба отца казалась возмутительной.
Его новая жена Глаша стояла на квартире у вдовы, дом был вместительный, но об одну комнату. Сюда и перешел отец. Глаша работала на фабрике, где вязали пуховые шали. Она была тоже вдова. Ее дети — мальчик и девочка — задохнулись в пожаре, а муж умер от туберкулеза. В деревнях под Усть-Каменском жили родственники Глаши. Она перебралась поближе к ним. И она, и ее родственники еще до революции переселились с Украины на просторные степные южноуральские земли, и, хотя называли себя хохлами, все походили на турок: маслинно-черные глаза, смолевые волосы, небольшие носы с округлой горбинкой. Повязав черную катетку [4] Катетка — женский платок.
, в платье до пят, при ее тоншине и высоком росте, Глаша напоминала татарочку Диляру Султанкулову, которую давно, еще на Третьем участке, брат наотрез отказался выдать за моего отца.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу