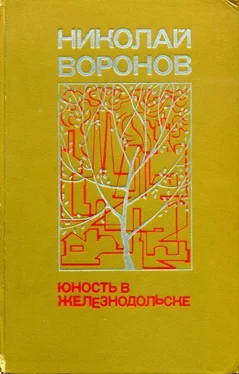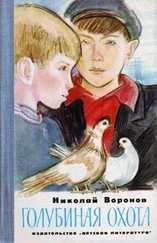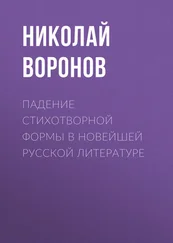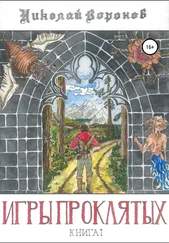— Ты из нее вицы вьешь, из своей мамы. «Забрала». Жадность раньше тебя родилась.
— Если хочешь знать, мать забрала у меня деньги. На курево только оставила. Ради Васьки потерплю без курева. Пойдешь с нами корову покупать? В базарный день. Ведерницу возьмем. Молоко будем дуть — от пуза.
— Кто будет дуть, кто слюнки глотать.
— Приведем ведерницу и, даю голову наотрез, обмоем буряковкой. На закуску пельмени закатаем. Из трех мяс. Из баранины. Из говядины. Из свинины.
Давно мне опротивели его посулы, произносимые таким искренним тоном, что невольно веришь, хоть и знаешь — врет.
Он причмокнул губищами (губастыми в бараке были он и Колдунов) и протянул червонец:
— На, а то еще ляпнешь Ваське: «Тимур жмотом стал».
Я оттолкнул Тимурову руку с червонцем, выхватил из кармана жалкие сто двадцать семь рублей, смял их, швырнул в лунку, где взморщивалась вода, подергиваясь струнами льда.
Чтобы он не подумал, будто боюсь его, пошел шагом.
— Мы люди без спеси. Поднимем. Купим табачку, — незлобно бормотал Тимур у водоколонки.
Входя в барак, я прикинул, что́ сделаю, чтобы отомстить Тимуру и спасти Васю Перерушева. Я стал продавать каждый день то свою обеденную горбушку, то ужинную и тратил хлебные деньги на покупку ученических перьев. Перышко стоило не меньше трех рублей. По нынешним временам это баснословная цена, тогда — привычная. За перо «пионер» без шишечки платили трешницу, с шишечкой — пятерку, за маленький «союз» (он всегда с шишечкой) — тоже пятерку, за большой — червонец, за перо для авторучки, не торгуясь, давали четвертную.
Хотя коробка — поначалу я складывал перья туда — была довольно вместительная, из-под розовоголовых спичек, все же для игры с Тимуром перьев было слишком мало.
Целую неделю я съедал ежедневно только по двести граммов хлеба, пятьсот шло на продажу. Перья прибывали в жестянке. Мне доставляло удовольствие встряхивать их, слушать, как они шелестят и громыхают.
Деньги, пожертвованные ребятами на покупку валенок и брюк для Васи, я не трогал: з а к о н!
Напоследок я решил прикупить крошечных чертежных перышек у запасливой Матрены Колдуновой, она пообещала взять с меня милостиво — по два рубля за перо.
Мастер отдал старосте талоны на ужин и ушел домой.
Ужинали мы первыми. Захватили стол напротив раздатки, откуда горько, но соблазнительно пахло хлопковым маслом.
Я боялся опоздать на базар, поэтому мгновенно выхлебал из железной луженой тарелки вермишелевый суп и съел из глиняного черепка картошку. Засовывая за пазуху пайку, выбежал на крыльцо столовой. Чуть не столкнулся лоб в лоб с Костей Кукурузиным.
— Куда торопишься, Серега?
— На базар. Пайку продавать.
— И мне надо на базар. Подождешь?
— Загнать не успею, Константин Владимирович.
— Тогда дуй. Между прочим, перестань навеличивать.
Рынок разбросан был от самой подошвы до вершины крупного шишковатого холма. Я должен был продраться сквозь барахолку к макушке холма, окруженной парикмахерскими, мастерскими часовщиков, сапожников, жестянщиков, лавками утильщиков.
— Ка-ан-чай ба-зар! — кричал старшина милиции Вахитов.
Кричал он протяжно, как мулла с минарета. Он будто бы и не замечал людей, гомонивших вокруг и опасливо-почтительно расступившихся перед ним; между тем в его, казалось бы, незрячих глазах оставались, как рыбы в мелкоячеистой сети, все, в ком он угадывал по одежде, жестам, мимике воров, барыг, шпану, шаромыжников. Он прямо-таки протравливал преступный мир. Его пытались отправить к аллаху — стреляли, резали, топтали. Живучесть Вахитова приводила в панику жулье, потрясала хирургов. Летом ему всадили в живот медвежью пулю. Весь город говорил: «Теперь Вахитову каюк», — однако поздней осенью он опять появился на базаре, кряжистый, прямой, как раньше, и ходил по земле на своих наезднически-кривых ногах легко и прочно.
Толкучка еще густо роилась, но ее постоянные обитатели — п р о п и с а н н ы е н а р ы н к е, как говорили о них, — поторапливались, чтобы не раздражать вездесущего Вахитова.
Однорукий и припадочный художник-кустарь скатывал на колене холсты, на которых глянцевели жаркие кони, пришпориваемые стройными всадниками, или краснощекие, в цветастых сарафанах бабы.
Широколобый мужчина по фамилии Кырмызы, называвший себя электротехником и хваставший своей редкой национальностью, которая даже в учебнике не упоминается (он был гагауз), складывал железные ножки штатива, на котором кубастился затянутый в черный чехол деревянный ящик с индуктором. Целыми днями гагауз Кырмызы торчал возле этой машинки, приглашая продающий и покупающий люд погреться электричеством.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу