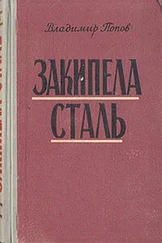— Сталевара печи номер три Е. Сенина перевести на печь номер два в смене «В». На его место поставить Рудаева С. Г.
Для Серафима Гавриловича это было полной неожиданностью.
— Купить хотите? — хриплым от волнения голосом спросил он.
— Я не барышник! Я никого здесь не покупаю и никого не продаю! Просто пользуюсь случаем поставить на печь по-настоящему достойного человека. Пойдете? — шариковая ручка повисла в воздухе.
Тихо стало в рапортной. Ситуация сложилась неожиданно острая. Клюнет Серафим Гаврилович на эту приманку или нет? Многое зависело от его ответа. Откажется — никто другой в смене «В» на третью печь сталеваром не пойдет. Ему на ней работать по праву старшинства, по праву мастерства. Не использует он свое право — какие права у других занять это место? И кому захочется быть хуже этих двух — зеленого юнца и придирчивого к себе, неподатливого к уговорам старейшины цеха, если и он заартачится?
Тихо в рапортной. Полсотни человек сидели затаив дыхание.
— Так что, Серафим Гаврилович, блеснете удалью?
— Идет!
Это «идет» Серафим Гаврилович выговорил твердо, с видом человека, принявшего единственно правильное решение, и победоносно оглядел собравшихся. Он понимал, что такого шага от него не ожидали, однако не только не был смущен, наоборот, был горд. Вот удивил своих собратьев!
Удовлетворенный таким исходом дела, Гребенщиков, закрыв рапорт, против своего обыкновения пожелал всем хорошего отдыха.
Сегодня впервые сталевары возвращались домой порознь.
В молодости очень грустно терять свои идеалы, терять веру в человека. Разочаруешься в одном, а переносишь боль на все человечество. Серафим Гаврилович был для Сенина эталоном неподкупности, прямолинейности, принципиальности. И вдруг обнаружил такое искусство поворота.
Сенин почувствовал себя мальчишкой, идеалистом, гнилым интеллигентом, которого так просто обвел вокруг пальца опытный демагог, чьи слова принимал за чистую монету, а возмущение — за справедливость. Сделал бы это Пискарев — не было бы так обидно. Человек он рыхлый, неустойчивый, от него можно ожидать подобного шага. Но Серафим Гаврилович, этот громовержец и правдолюбец, так рьяно рассуждающий о рабочей чести, воспитавший у него самого понятие рабочей чести… Нет, такое не укладывалось в сознании Сенина и примириться с этим было невозможно.
Он пожалел о сделанном шаге. Жертва оказалась глупой, нелепой, ненужной. Вспомнились слова одного сослуживца отца, которого они всей семьей не выносили за цинизм и внутреннюю опустошенность, слова, которые он тогда мигом забыл: «Ты, Женька, из вырождающейся породы карасей-идеалистов. Это у тебя от папеньки с маменькой, от музыки и прочих искусств, уводящих от реальности. Лечись от этой болезни. Прими за правило подходить к каждому человеку как к подлецу. Ошибешься — ущерба никакого, но ошибаться тебе придется редко».
Многого было жаль Сенину. Жаль уходить с печи — привык к ее быстрому, горячему ходу, жаль расставаться с подручными — ребята — орлы, один к одному подобраны, да и в зарплате потерять придется. А деньги ему очень нужны — сестре жить негде, хотел подсобрать ей на однокомнатную квартиру. И родители теперь не будут с довольной улыбкой показывать ему газеты: «Опять о тебе». Но какое-то другое, сложное чувство, которое существовало подспудно, в котором еще не успел разобраться, постепенно приглушает болевой комок, снимает неудовлетворенность.
Пискарев дошел уже до проходной и повернул обратно в цех. Его глубоко растрогало душевное благородство Сенина — кто когда добровольно уходил с хорошел печи? — и возмутил Рудаев. Знал он Серафима Гавриловича давно и никак не ожидал от него такого бесстыдного отступничества. Не постеснялся народа, вывернул себя наизнанку.
Долго бродил он по цеху, разыскивая младшего Рудаева. Наконец увидел его в разливочном пролете.
— А батя твой, декларатор прославленный, оказался шкурой, — растягивая слова, будто для того, чтобы Рудаев особо прочувствовал каждое, процедил он.
— Ну, ну, полегче! Что, глотнул? — вспылил Рудаев. Пискарев подробно рассказал, как методически и упорно выбивал Серафим Гаврилович Сенина из седла и как нахально влез в него сам.
— Быть не может, — выдохнул Рудаев.
— Если бы я сказки сказывал, то выбрал бы что-нибудь поудачнее. — Пискарев болезненно скривил в усмешке рот и пошел прочь отяжелевший, подавленный.
Однако уйти из цеха, не излив душу, не смог. Подошел к одному сталевару, потом к другому, и скоро вся вечерняя смена узнала о происшедшем.
Читать дальше