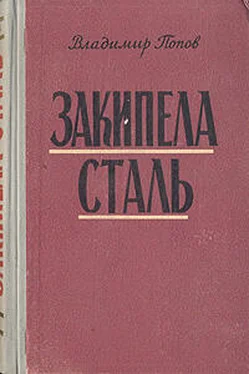Ротов отличался от иных людей. Люди приобретают вкусы, привычки, взгляды, потом смотришь — от многого и следа не осталось, многое изменила жизнь. А Ротов оставался непреклонным к настоятельным требованиям жизни, и ему не приходило в голову посмотреть на себя со стороны, посмотреть и подумать: «А вправе ли я оставаться таким?»
Он вспомнил себя мальчишкой-школьником. И в школе его не любили. Он был сильнее всех и умнее многих. Но разве не любят тех, кто сильнее и умнее? Нет, любят. Значит, не в этом причина. Причина в другом, в том, что он всегда подчеркивал свое превосходство, демонстрировал свои знания, свою силу. Ему и в школе еще нравилось, что его боялись. Вот откуда оно шло. Повелевать другими, командовать другими, не считаться с другими. Авторитет силы — самый простой путь подчинять себе. Потому и предпочитал он такой авторитет, что давался легко.
Дома Ротов присел возле играющих детей и с грустью стал смотреть на них. Людмила Ивановна робко спросила, почему он такой скучный.
— Меня снимают с работы, — глядя мимо нее, ответил Ротов, и спазма сдавила ему горло.
Людмила Ивановна ахнула.
Ротов ушел в свой кабинет и вышел только вечером, когда дети уже спали.
За ужином он рассказал жене о беседе секретаря ЦК с Гаевым.
— И для чего нужно было Грише писать обо всем в ЦК? — с нескрываемой досадой сказала Людмила Ивановна. — Смотри, как сложилось: рабочие на тебя за грубость жаловались, танковый завод бучу поднял, да еще он…
— Сам виноват, — буркнул Ротов, и Людмилу Ивановну несказанно удивило это неожиданное признание.
Позвонив старшей телефонистке — не соединять ни с кем, кроме Москвы, — Ротов лег спать.
Ночью позвонил нарком.
«Быстро делается», — ужалила Ротова горькая мысль.
— Умер Канонихин, — сказал нарком, поздоровавшись. — Инфаркт, Завод остался без директора.
«Вот куда спровадить меня собираются», — мелькнуло у Ротова.
— В ЦК рекомендуют вернуть туда Мокшина. Твое мнение?
У Ротова так заколотилось сердце, что он не мог сразу ответить.
— Твое мнение? — повторил нарком.
— Не отдам, — глухо выдавил из себя Ротов, не будучи в состоянии произнести больше ни слова.
— Ну вот. То утверждал, что сам справишься, а теперь задний ход даешь? Что ж, в крайнем случае обойдемся и без твоего согласия.
— Разрешите на два дня отлучиться на танковый? — собрался с силами Ротов.
— А что случилось?
Ротов ясно слышал, что нарком усмехнулся.
— Помочь им надо.
— Разрешаю. Давно пора. Директор Магнитки сам бывает на танковом, по крайней мере, раз в месяц, не ждет, когда к нему на поклон приедут. А если и приезжают, то не гонит, как попрошаек. Желаю успеха.
В институте об истории Ольги никто ничего не знал: на вокзале Валерий сказал провожавшим его однокурсникам, что Ольга заболела.
Ольга чувствовала всю несуразность своего положения, но ничего не могла сделать. У нее был только один выход: молчать. А молчание угнетало. Изливать душу матери не хотелось — жалела ее, плакаться отцу — стыдно. Он ведь предостерегал: разберись, изучи. Хорошее дело: разберись, когда за плечами всего двадцать лет и ни горсточки опыта… Да и как разобраться в человеке, если раскрывается он полностью только на крутых поворотах. Нет, конечно, можно. Надо только не ходить с повязкой на глазах, видеть и оценивать все, даже мелочи. Почему не насторожилась она, когда Валерий предложил ей увильнуть от работы в подсобном хозяйстве? Пусть это единичный факт, но и в нем надо было уметь разобраться. А почему ей теперь все ясно? Повязка спала.
Во время лекций Ольге удавалось забывать о случившемся, а вернувшись домой, она уединялась и думала, думала, думала. В голову лезла всякая всячина, сложный, запутанный комплекс противоречивых чувств навалился на нее. Но мучительнее всего было утром, когда, проснувшись словно от толчка, она ощущала, как разом набрасывается на нее ворох липких, как патока, мыслей, перебивая одна другую, и от них не отбиться — тянется и тянется эта нить, переживания нагнетаются, состояние удручения усиливается с каждой минутой, и тогда только один выход — встать, заняться чем-нибудь.
Мало-помалу Ольга стала приходить в себя. Научилась отгонять мучительные мысли, а если и думала о происшедшем, то все реже, с глухой, затухающей болью.
Но вот в газетном ящике увидела конверт со знакомым почерком. В первый момент она даже отдернула руку — решила не брать, не распечатывать. Что может написать Валерий, и как у него хватило смелости написать после всего? Но рука потянулась сама собой.
Читать дальше