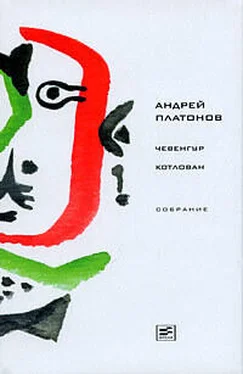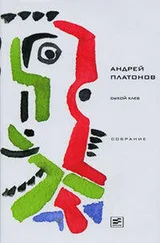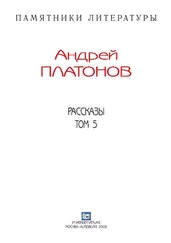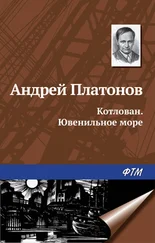Следующий день начался мелким дождем, солнце не показалось над Чевенгуром; люди проснулись, но не вышли из домов. В природе наступила осенняя смутность, почва надолго задремала под окладным терпеливым дождем.
Гопнер делал ящик на водяной насос, чтобы укрыть его от дождевой мелочи и все же добыть огонь. Четверо прочих стояли вокруг Гопнера и воображали, что они тоже участвуют в его труде.
А Копенкин расшил из шапки портрет Розы Люксембург и сел срисовывать с него картину — он захотел подарить картину Розы Люксембург Дванову, может быть, он тоже полюбит ее. Копенкин нашел картон и рисовал печным углем, сидя за кухонным столом; он высунул шевелящийся язык и ощущал особое покойное наслаждение, которого никогда не знал в прошлой жизни. Каждый взгляд на портрет Розы Копенкин сопровождал волнением и шепотом про себя: «Милый товарищ мой женщина», — и вздыхал в тишине чевенгурского коммунизма. По оконному стеклу плыли капли дождя, иногда проносился ветер и сразу осушал стекло, недалекий плетень стоял заунывным зрелищем, Копенкин вздыхал дальше, мочил языком ладонь для сноровки и принимался очерчивать рот Розы; до ее глаз Копенкин дошел уже совсем растроганным, однако горе его было не мучительным, а лишь слабостью еле надеющегося сердца, слабостью потому, что сила Копенкина уходила в тщательное искусство рисования. Сейчас он не мог бы вскочить на Пролетарскую Силу и мчаться по степным грязям в Германию на могилу Розы Люксембург, дабы поспеть увидеть земляной холм до размыва его осенними дождями, — сейчас Копенкин мог лишь изредка утереть свои глаза, уставшие от ветра войны и полей, рукавом шинели: он тратил свою скорбь на усердие труда, он незаметно хотел привлечь Дванова к красоте Розы Люксембург и сделать для него счастье, раз совестно сразу обнять и полюбить Дванова.
Двое прочих, и с ними Пашинцев, рубили шелюгу по песчаному наносу на окраине Чевенгура. Несмотря на дождь, они не унимались и уже наложили немалый ворох дрожащих прутьев. Чепурный еще издали заметил это чуждое занятие, тем более что люди мокли и простывали ради хворостины, и пошел справиться.
— Чего вы делаете? — спросил он. — Зачем вы кущи губите и сами студитесь? Но трое тружеников, поглощенные в самих себя, с жадностью пресекали топорами худую жизнь хворостин.
Чепурный сел во влажный песок.
— Ишь ты, ишь ты! — подговаривал он Пашинцеву под руку. — Рубит и режет, а зачем — скажи, пожалуйста?
— Мы на топку, — сказал Пашинцев. — Надо зиму загодя ждать.
— Ага — тебе надо зиму ожидать! — с хитростью ума произнес Чепурный. — А того ты не учитываешь, что зимой снег бывает?!
— Когда напáдает, то бывает, — согласился Пашинцев.
— А когда он не падает, скажи пожалуйста? — все более хитро упрекал Чепурный и затем перешел к прямому указанию: — Ведь снег укроет Чевенгур и под снегом будет жить тепло. Зачем же тебе хворост и топка? Убеди меня, пожалуйста, — я ничего не чувствую!
— Мы не себе рубим, — убедил его Пашинцев, — мы кому-нибудь, кому потребуется. А мне сроду жара не нужна, я снегом хату завалю и буду там.
— Кому-нибудь?! — сомневающе сказал Чепурный — и удовлетворился. — Тогда руби больше. Я думал, вы себе рубите, а раз кому-нибудь, то это верно — это не труд, а помощь даром. Тогда руби! Только чего ж ты бос? Нá тебе хоть мои полусапожки — ты ж остудишься!
— Я остужусь?! — обиделся Пашинцев. — Если б я когда заболел, то ты бы давно умер.
Чепурный ходил и наблюдал по ошибке: он часто забывал, что в Чевенгуре больше нет ревкома и он — не председатель. Сейчас Чепурный вспомнил, что он не Советская власть, и ушел от рубщиков хвороста со стыдом, он побоялся, как бы Пашинцев и двое прочих не подумали про него: вон самый умный и хороший пошел, богатым начальником бедноты коммунизма хочет стать! И Чепурный присел за одним поперечным плетнем, чтобы про него сразу забыли и не успели ничего подумать. В ближнем сарае раздавались мелкие спешные удары по камню; Чепурный выдернул кол из плетня и дошел до того сарая, держа в руке кол и желая помочь им в работе трудящихся. В сарае на мельничном камне сидели Кирей и Жеев и долбили бороздки по лицу того камня. Оказалось, что Кирей с Жеевым захотели пустить ветряную мельницу и намелить из разных созревших зерен мягкой муки, а из этой муки они думали испечь нежные жамки для болящего Якова Титыча. После каждой бороздки оба человека задумывались: насекать им камень дальше или нет, и, не приходя к концу мысли, насекали дальше. Их брало одинаковое сомнение: для жернова нужна была палбрица, а сделать ее мог во всем Чевенгуре только один Яков Титыч — он работал в старину кузнецом. Но когда он сможет сделать палбрицу, тогда он уже выздоровеет и обойдется без жамок, — стало быть, сейчас не надо насекать камня, а тогда, когда поднимется Яков Титыч, если же он выздоровеет, то жамки не потребуются наравне с мельницей и палбрицей. И время от времени Кирей и Жеев останавливались для сомнения, а потом вновь работали на всякий случай, чтобы чувствовать в себе удовлетворение от заботы по Якову Титычу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу