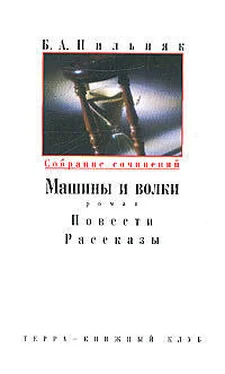И Себеж встретил метелью, сумерками, грязью, шумом мешечников, воплями и матершиною на станции. Метельные стервы кружились во мраке, лизали, слизывали керосиновые светы. Забоцали винтовками, в вагоны влезли русские солдаты. Американец вышел на минуту, попал ногою в человеческий помет, на шпалах, и никак не мог растолковать, волнуясь, проводнику, чтоб ему продезинфецировали башмаки. Задубасили поленом в стену, проорали, что поезд не пойдет до завтра, осадили на запасный путь, снова завопили, побежали мешечники с мешками, баба кричала: — «Дунька, Дунька, гуртуйси здеся», — у пассажиров тихо спрашивали: — «Спирту не продаешь ли?» — Метель казалась несуразной, снег шел сырой, на запасном, в тупике, когда толпа мешечников умчалась с воем, — стало слышно, как воет ветер, гудит в колесах, в тендере, как шарит сиротливо снег по стенам, у окон, шарахаясь и замирая. Американцы говорили о заносах в прериях. Приходившие стряхали мокрый снег. В вагонах стало холодно и сыро, новый примешался над всей Россией веющий — запах аммиака, тримитиламина, пота. Был поздний час, за полночь никто не понимал, ложиться спать иль нет?
— И — тогда — пришли и сказали, что — в театре культ-просвета комсомола — митинг, предложили сходить. — Вот и все. — Во мраке — первый русский — сразу покатился под колеса, сорвавшись с кучи снега, сваленной на шпалы, встал и сматершинил добродушно. Пошли в метель. У водокачки промочили ноги и слушали, как мирно льет вода из рукава, забытая быть завернутой. Не один, не два, а многие понесли на башмаках удушливые запахи. Англичанин освещал себе путь электрическим фонариком. В вокзале на полу в повалку, мужчины, женщины и дети, лежали пассажиры. Был уже час за полночь. Когда спросили, где комсомол, — рукой махнули в темноту, сказали: — «Вон тама. — Нешь не знаешь?» — Долго искали, путаясь в шпалах, поленницах и мраке. В поленницах наткнулись на двоих, они сопели, англичанин осветил, — в поленнице совокуплялись солдат и баба, стоя.
Барак (у входа у барака была лужа, и каждый попадал в нее во мраке) был сбит из фанеры, подпирался изнутри столбами. В бараке был, в сущности, мрак. Плечо в плечо, в безмолвии, толпились люди. На сцене, на столе, коптила трех-линейная лампенка, — под стрешни в фанерном потолке врывался ветер, и свет у лампы вздрагивал. На заднем плане на сцене висел красный шелковый плакат: — «Да здравствует Великая Рабочая и Крестьянская Русская революция». У лампы за столом сидели мужики в шинелях и овчинных куртках. Театр из фанеры во мраке походил на пещеру. Говорил мужик в шинели, — не важно, что он говорил.
— Товарищи! Потому как вы приехали из Америки, этот митинг мы собрали, чтоб ознакомить вас, приехавших из Америки, где, сказывают, у каждого рабочего по автомобилю, а у крестьянина — по трактору. У нас, товарищи, скажу прямо, ничего этого нету. У нас, товарищи, кто имеить пуд картошки про запас, — спокойный человек. Для вас не секрет, товарищи, что на Поволжьи люди друг друга едять. У нас колосональная разруха. — Н-но, — товарищи, — нам это не страшно, потому что у нас наша власть, мы сами себе хозяева. И нам известно, почему вы приехали из Америки, хоть у нас свиного сала и нет, не то — чтобы кататься на автомобилях. У нас теперь власть трудовых советов, а для заграницы у нас припасен Третий Интернационал. Мы всех, товарищи, зовем итти с нами и работать, — н-но, — товарищи, — врагов наших мы беспощадно расстреливаем. — Вот, товарищи, какие газы и промблемы стоять перед нами.
Что-то такое, так, гораздо длиннее, говорил солдат. Люди, плечо в плечо, стояли безмолвно. К солдатским словам примешивался вой ветра. Лампенка чадила, но глаз привык ко мраку, и лица кругом были строги. Театр был похож на пещеру. Солдат кончил. Вот и все. За ним вышел говорить старик иммигрант.
— Дорогие товарищи, я не уполномочен говорить от лица всех. Я девятнадцать лет прожил в Америке, — не кончил, зарыдал, — выкрикнул: — Россия. — Его посадили к столу, плечи его дергались.
Двое — англичанин и русский филолог — вышли из театра — клуба комсомола, во мрак, в метель. Англичанин машинально пробрел по луже. — Да, иная Россия, иной мир. Англичанин поднял воротник пальто.
— Вас поразил митинг? — спросил англичанин.
— Нет. Что же — это советские будни, — ответил филолог.
Поезд стоял в тупике; — поезд впер в Россию. Вот и все.
Вот и все.
Впрочем — вот, чтоб закончить главу, как вступление:
— о неметельной метели.
5. О неметельной метели
Я не знаю, как это зовется в народе. Это было в детстве, в России, в Можае. Это был, должно быть, сентябрь, начало октября. Я сидел на окне. Напротив был дом — купеческий, серый, дом Шишкиных, направо площадь, за нею собор, где ночевал Наполеон. Против дома Шишкиных, на углу стоял фонарь, на который в пожарном депо отпускалось конопляное масло, но который никогда не светил. Ветер был такой, что у нас повалился забор, у Шишкиных оторвало ставню и сорвало железо с крыши, фонарь качался: — ветер был виден, он был серый, — он врывался, вырывался из-за угла, несс собой серые облака, серый воздух, бумажонки, разбитое решето, ветер гремел калитками, кольцами, ставнями — сразу всеми со всего переулка. Была гололедица, земля была вся в серой корке льда. Одежда на людях металась, рвалась, взлетала над головами, — люди шли, растопырив все конечности, и у фонаря люди, сшибаемые ветром, — все до одного, — бесполезно стремясь ухватиться за столб, выкидывая ногами крендели, летели вслед за решетом. Мой папа, доктор, пошел в земскую управу, на углу он вскинул ногой, рукой хотел было схватиться за столб, — и еще раз вскинул ногой, сел на землю и дальше пополз на четверинках, головою к ветру: ветер был виден. Мальчишки, — Васька Шишкин, Колька Цвелев, — и тут нашлись: они на животах выползли в ветер, и ветер их тащил по ледяной корке. — Была гололедица, был страшный ветер, как Горыныч, — и все было серо, отливающее сталью: земля, небо, ветер, дома, воздух, фонарь. И ветер — кроме того — был еще вольным. — Мама не пустила меня в тот день на улицу, мама читала мне Тараса Бульбу. Тогда, должно быть, сочинились стихи, оставшиеся у меня от древнего моего детства:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу