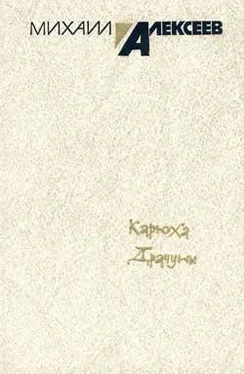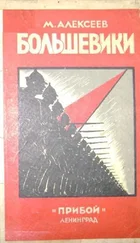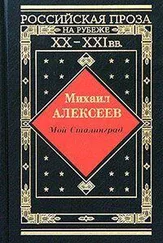Вот когда я по-настоящему понял, как же хорошо сделал, что не оставил Жулика дома, в Монастырском! Не в состоянии сдержать в себе благодарных чувств к четвероногому другу, распираемый их переизбытком, я чмокнул его в мокрый холодный нос, а Жулик в ответ лизнул меня в щеку и глаза, после чего мы выскочили на темную улицу.
Екатериновские собаки спохватились лишь тогда, когда мы миновали мост и вбежали на гору; одна, невидимая во мраке безлунной ночи, погналась было за нами, но и та отстала, пролаяв в последний раз где-то далеко позади.
Без Жулика я, пожалуй, не отважился бы на побег: до Грязнухи версты три дорога шла лесом, а леса в том году полнились худыми слухами.
Мы с Жуликом приближались к середине леса, когда далеко позади на дороге, по которой мы шли, послышался конский топот, стремительно накатывавшийся прямо на нас. Леденящий душу холодок гадюкой вполз под мою рубаху, тугим обручем сжал сердце, а кепка, как живая, поползла вверх, подпираемая вздыбившимися от смертельного страха волосами на моей голове. Может, и не испугался бы так, не омертвел бы в ужасе, если б смог в ту минуту обратить внимание на своего спутника и защитника – на Жулика. Пес должен был бы тоже вздыбить шерсть на своем загривке и залаять на скакавшего вслед за нами всадника, а Жулик молчал. Больше того, он вилял хвостом, и кончик хвоста больно ударял меня по голой икре, усеянной цыпками с самой еще весны.
Настигнув нас, всадник осадил коня, – и только теперь я разглядел, что конь был пегим, – и сейчас же услышал голос отца:
– Что ты наделал, негодяй?.. А?.. С ума можно сойти! Как тебя это угораздило, ну?..
Я молчал, прижавшись к дереву и как бы ища в нем защиты. Отец слез с лошади, подошел ко мне:
– А ну полезай на пегого! Живо!
– Не полезу! – закричал я прямо в его лицо, закричал так отчаянно, что отец испугался и, верно, понял, что вернуть меня обратно в Екатериновку ему не удастся, а ежели и удастся, то я все равно убегу не в эту, так в следующую ночь.
– Что же ты делаешь со мной, сынок? – говорил он, уже чуть не плача. – Хоть утра бы дождался. Сбедишь ведь ты себя по дороге ночью-то. Слышал, поди, что говорят люди про эти места?.. Может, все-таки вернешься?
– Не вернусь, папанька. Ни за что не вернусь!..
– Ну, ну… Зачем же кричать так!.. Воля твоя, ты теперь не маленький. Ступай, сынок. Только знаешь что… – он помолчал, трудно дыша, попросил униженно: – Матери-то не сказывай… Нашей беде не поможешь, а ее сгубишь, убьешь совсем. Так что…
– Не скажу, – пообещал я твердо.
– Спасибо, сынок, – отец сунул в единственный мой карман несколько бумажек, – матери передай. А сейчас садись все-таки на лошадь, вывезу тебя хоть из лесу…
– Не надо. Я так…
Я боялся, что отец обманет: посадит на коня и умчит в Малую Екатериновку.
– Ну, прощай, Миша, не суди строго папаньку, – отец прижал меня к груди своей, неловко ткнулся несколько раз в мою щеку мокрыми жесткими усами и легонько подтолкнул в спину: – Ступай.
Ни я, ни он не знали в ту минуту, что виделись в последний раз.
Мать избавила меня от тяжкой необходимости говорить неправду: все поняла раньше, чем я открыл калитку и вошел во двор, – в окно увидала нас с Жуликом на тропе, ведущей через выгон к нашему дому. Увидела, побледнела и тяжело опустилась на лавку, уронив на колени руки. Когда я вошел и встал у порога, не зная, с чего начать, она сама пришла мне на выручку:
– Не надо, сыночка!.. Не надо… Не сказывай ничего. Я… я… я все знаю… Беги, родимый, в школу. Директор зачем-то собирает вас, старшеклассников. Поди-поди!
Хоть и устал сильно и от дороги, и от бессонницы, и от пережитого за эти долгие, растянувшиеся вроде бы на целую жизнь сутки, я все же немедленно воспользовался возможностью уйти из дома и не казниться видом страдающей, убитой горем, но больше обидой, матери. Уже на пути к школе меня перехватил старший брат Санька, вышедший из правления, где сдавал учетные листы, и в момент вытряхнул из меня худую новость.
– Там, значит, паскудина. Так и знал… Ну, погоди, стерва, я до тебя доберусь! – рыжий, маленький, называвшийся всеми не иначе как Санька Плюгавый, он воинственно сжал кулаки, погрозил ими кому-то и, взъерошенный, как драчливый воробей, зашагал домой, силясь подобрать слова, которыми мог бы хоть самую малость утешить мать: не только сыновние чувства, но и положение старшего теперь в доме обязывало его к этому.
Возле школы прежде всего я увидел Катьку Леонову, которая прижимала к себе плачущую навзрыд Марфу Ефремову и что-то говорила ей, утешая.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу