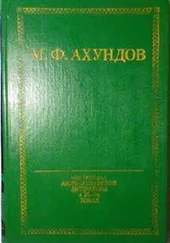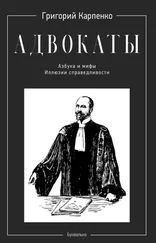Деревенские адвокаты
Здесь есть возможность читать онлайн «Деревенские адвокаты» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Советская классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Деревенские адвокаты
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Деревенские адвокаты: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Деревенские адвокаты»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Деревенские адвокаты — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Деревенские адвокаты», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Так косили они, порою прислушиваясь к ребенку. Тихо, ни звука. Но вздрогнули оба, глянули друг на друга. Страх охватил их разом, отбросили косы и побежали к арбе. Отцов китель, на котором лежала дочка, был пуст. Сначала на лугу и поблизости от луга искали, звали. «Аккош! Аккош!» Потом бросились в лес, разбежались в разные стороны. «Аккош! Аккош!» Девочка не откликалась. В густом кустарнике в двухстах шагах от опушки Кашфулла наткнулся на волчье логово. Рядом — целый выводок, пятеро волчат играют, кувыркаются друг через друга. Маленькие еще, позже обычного родила их мать. Между резвящихся хищников с важным видом расхаживает Аккош. Одного за хвост потянет, другого погладит по спине. Кашфулла, чуть не задохнувшись, бросился к дочери. Волчата, поджав в испуге хвосты, рассыпались кто куда, а потом один за другим шмыгнули в логово. Старшие волки в то время были на промысле, вернее, перед ночной охотой отправились на разведку. Прижав дитя к груди, серый как пепел, отец закричал что есть мочи:
— Гульгайша!
Жена откликнулась где–то поблизости.
— Нашел! Ступай к телеге, — сказал Кашфулла.
Когда они сошлись, сказать, где он нашел дочку, у Каш
фуллы не повернулся язык, пожалел жену. Бросил коротко:
— Там, в чащобе нашел. Гульгайша расплакалась:
— Как ты нас напугала, доченька! Что же ты там делала?
— С собачками играла. Одна меня в нос лизнула.
— Какие еще собачки?
Только тогда Кашфулла рассказал о грозившей их дитю погибели. Жена обняла ребенка и всхлипывала долго.
— Аккош моя! Заблудившаяся моя лебедушка!
— То–то, как подъехали сюда, лошадь все фыркала. Видишь, и сейчас уши топорщит, — сказал Кашфулла.
Сторожкое животное всегда чутье свое держит на взводе, а человек беспечно полагается на ум, вот и попадает в беду. А лошадиная порода в этих случаях всегда начеку.
Тут из леса донесся истошный, перекрученный яростью волчий вой. У хищника этого повадка есть: как почует, что его детенышей коснулась человеческая рука, становится как бешеный. Заодно и своевольное потомство кару свою получает.
Какая уж тут работа, после такого страха… Запрягли косари лошадь и в самый разгар дня отправились домой. Назавтра Кашфулла с Курбангали взяли два ружья и подкрались к волчьему логову. Но умные звери бросили свои оскверненные человеком владения и посреди ночи ушли в другое урочище.
Ни когда косили, ни когда копнили, волки больше голоса не подавали. Но страх и тревога в сердцах жены и мужа остались навсегда.
Беспечально росла Аккош. Залетали к ним всякие слухи, но простой и ясной жизни этой семьи омрачить не могли. В ауле — что в доме, где ребенок есть, секреты не держатся. Однажды прибежала с улицы Аккош, прильнула к матери.
— А зачем эта Зубаржат найденышем меня назвала? Гульгайша растерялась. В первый раз спросила дочка.
Но сообразила быстро:
— Детей же матери находят. Потому и все дети — найденыши.
— Я ей тоже «сама ты найденыш» сказала.
— Правильно сказала.
Беспонятливому еще ребенку «объяснить» просто. А вот как понимать начнет? Тогда что? До какой ведь беды может дойти! Но тревоги отца с матерью оказались напрасными. Исполнилось Аккош четырнадцать, и однажды вечером, когда остались мать с дочерью вдвоем, решила Гульгайша рассказать все, открыть тайну.
— Чем от людей услышишь, дочка, уж лучше сама расскажу… Я ведь тебя сама, своей грудью не вскормила. Мы тебя… тебя нам судьба дала… Как же мне объяснить–то, господи!..
— Мама! — вытянувшаяся уже красавица дочка обняла Гульгайшу. — Не рассказывай. Я все знаю. Все понимаю. Я вас обоих за это еще больше люблю!
Так все и разъяснилось. Длинному языку Минзады спасибо. Она первая девочке открыла глаза. А ведь могла не глаза открыть, а вовсе душу ослепить. Ладно, обошлось. Душа добрая — длинен язык, но милосерден.
На учебу Аккош была сметливая. Петь–плясать тоже оказалась искусницей. Закончила десятилетку в Калкане и поступила в Уфимский педагогический институт. Как раз в ту пору из–за красивого ее голоса пытались уговорить Аккош ехать в Москву, учиться пению. Она же ни в какую. «Брат далеко живет, отец с матерью одни остались. Закончу институт — и вернусь домой», — отрезала она.
Сказано — сделано. Учительницей родного языка вернулась она в школу, где сама когда–то проучилась восемь лет. Ни один праздник в колхозном клубе, ни одно торжество не обходится без нее. Выйдет Аккош в длинном, до кончиков туфелек, белом платье на сцену — деревенский люд дышать забывает. В первом ряду, вытянув шеи, всегда сидят Кашфулла с Гульгайшой, Нурислам с Баллыбанат, Курбан–гали со своей Серебряночкой. Сюда же затешется и соседка Минзада. «Мое молочко первым это горлышко смочило. От Шербета своего отрывала, — говорит она. — Мое место впереди всех быть должно…» Пусть впереди — никто не спорит. Всей душой верит Минзада: это ее молоко позолотило горло Аккош и голос этот высеребрило. Пусть верит — никто не против.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Деревенские адвокаты»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Деревенские адвокаты» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Деревенские адвокаты» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.