— Если есть, — сказал он, задыхаясь, — если есть…
Следователь вяло вышел из комнаты. Его глаза были сонными. Он долго не возвращался. Недосказанные слова спирали Петру Ивановичу горло. Он выкурил папиросу и скрутил другую. В полной тишине где-то внизу, в подвалах, трудно, туго и высоко, как совесть, гудело динамо, единственный работающий в городе электромотор, и весь дом прислушивался, содрогаясь, к его непрерывной работе.
Синайский встал и во весь рост увидел окно. Темный ветер катил за стеклами по крышам крымские яблоки облаков. Розовая чернота смерти надвигалась на глаза.
«Так вот оно как», — подумал Петр Иванович, стоя посередине комнаты, среди оцепеневших вдруг окон, запертый коварно остановившимися облаками. «Так вот оно как», — думал он, не в силах сдвинуться с места и уже ничего не видя, кроме гипсовой маски своего лица, и ничего не слыша, кроме шагов и движения за дверью. Шаги и шум приближались, вырастали до неизмеримых пределов, и снова удалялись, и снова приближались, а он продолжал стоять в третьей позиции, не смея сдвинуть носков и зная, что, пока он их не сдвинул, ручка двери не повернется. Но на голом, ярко освещенном полу валялись клочки бумаги и окурки. Он знал, что, пока они валяются, ручка может повернуться, и надо их поскорее убрать. Но убрать их, не сдвинув носков, было невозможно. И оставить их на полу было невозможно. И Петр Иванович, выжидая, когда шум удалялся, быстро хватал бумажку, кидал в плевательницу и с бьющимся сердцем, как ни в чем не бывало, ставил ноги в безопасную позицию. Но шум накатывал снова. Неубранные бумажки белели на голом полу, как улики. Ручка готова была повернуться. Но грохот удалялся, и Петр Иванович, как вор, торопясь и задыхаясь, убирал с полу бумажки. Вот осталась всего одна. Маленький треугольный клочочек. Он лежал в самом дальнем углу, на самом видном месте. Надо было успеть, надо было перебежать комнату. От этого зависело все. Петр Иванович бросился за бумажкой. Но грохот настиг его с поличным. Ручка дрогнула. Он зажал бумажку в кулаке и, обливаясь потом, как ни в чем не бывало, замер на бегу в безопасной позиции, но не удержался, и носки разъехались. Ручка поворачивалась. Отчаянная жажда жизни охватила его в это мгновение между поворотом ручки и движением двери. «Ах, если бы можно было сжаться до точки, исчезнуть, испариться! Закрыть глаза и растаять! Сгинуть! Превратиться в бумажку! Превратиться в отца, — подумал Петр Иванович в это мгновение, — в самом деле, отчего бы не превратиться в отца! Та же фамилия! Та же кровь. Та же самая жизнь. Только моя — начало, а его — конец. А небось не согласился бы поменяться участью с сыном! Проклятая стариковская жадность — цепляться за жизнь. Оплакивать сына, и жить, и дышать, и ходить по урокам. Слышишь, отец! Так где же твоя хваленая отцовская любовь! Где же твое хваленое отцовское горе?!»
Открылась дверь.
Следователь вошел с жестяным чайником и налил себе кружку чаю.
— Если есть… — хрипло сказал Петр Иванович, но следователь внимательно смотрел на него снизу вверх рогатыми глазами и, не торопясь, выдвинул ящик стола. Он опустил в него руку с голубым якорем и взял какой-то предмет. С вялой тщательностью он долго переводил взгляд с этого предмета на Синайского, задумчиво сличая и удивляясь, опять сличая, и вдруг лицо его стало железным, скулы натужились желваками, и он стукнул по столу кулаком так, что подпрыгнул чайник.
— В камэу! — крикнул он косноязычно, обнаружив прилипшую к языку стеклянную конфетку, и потянулся к кружке.
«Если есть…» — хотел вымолвить Петр Иванович, но горло стало глиняным. Он, шатаясь, вышел из комнаты.
И все.
Так просто и так понятно. «Да и быть этого иначе не могло. Разве могла произойти такая ужасная, непоправимая ошибка? — подумал Синайский. — Нет, не бывает в таких делах ошибок».
VI
Успокоившийся, освобожденный и ослабевший, он вернулся в камеру и лег в свой угол на тужурку. И, засыпая, сквозь счастливый приступ неодолимого сна он слышал некоторое время за ставнями холостую работу мотора и слабые, еле уловимые выстрелы, через десять секунд каждый. Он насчитал их что-то восемь и заснул.
Поздним вечером следующего дня Синайского освободили. За спиной горел насквозь высверленный электричеством бессонный, как совесть, дом.
Только теперь он увидел, какова была погода. Неожиданный резкий ветер жег уши. Обледенелая улица, начисто выметенная и отполированная норд-остом, была черна и безлюдна. Углы переулков свистали за спиной в два пальца. Железное небо, просверленное звездами, ехало по крышам, как броневик. Никогда еще Петр Иванович не видел таким свой родной город. Он был нов и страшен. Как жили и что делали люди в этих замерзших слепых домах без воды и хлеба? В этих домах с плотно закрытыми ставнями квартир и опущенными шторами магазинов?
Читать дальше
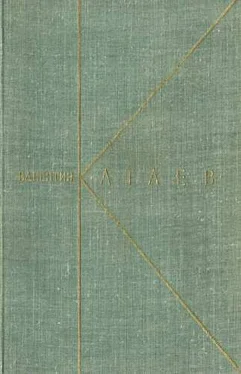










![Валентин Катаев - Флаг [Рассказы]](/books/427734/valentin-kataev-flag-rasskazy-thumb.webp)
