Отец вынимает из чехла бинокль, и в его маленьких черных стеклах, как в иллюминаторах, во всех подробностях бусинками лампочек отражается крошечная коронка люстры.
Тогда над оркестром грузно поднимается старый, согбенный, мертвенно-лысый человек во фраке. Прибик! Его фамилия — Прибик. Он стучит тонкой палочкой по пульту. Этот стук — тоже «прибик, прибик». Анархия оркестра умолкает. Диктатор подавил беспорядки звуков.
Жемчужинки зрительного зала гаснут в стеклах бинокля.
Теперь Руслан и Людмила царят над всем миром, бесстыдно озаренные рампой снизу.
И у выходных дверей, у запасных выходов, плотно и тщательно запертых седыми капельдинерами в феодальных ливреях, с аксельбантами и в белых чулках, горят прямоугольники фонарей красного таинственного фотографического света.
В эту минуту сердце леденеет. Этот миг — как обморок, как смерть…
И еще помню театр. Тоже городской. Чествование «героев Чемульпо». 1905 или 1906 год. Концерт. И мы какими-то судьбами в ложе первого яруса. Я — в матросской курточке, аккуратно подстриженный, с чистеньким платочком в кармане.
Много военных, моряков, блеск, бальные платья, голые локти дам, длинные лайковые перчатки, крошечные перламутровые бинокли с золотыми ручками, как лорнеты.
Посредине громадной, со всех сторон открытой сцены, перед румяной раковидной суфлерской будкой стоит высокая худая женщина — дама! — с выставленной вперед грудью, в лиловом платье. Пена шлейфа лежит у ее ног. У нее голые руки, в руках — ноты. Вся она — как русалка в сверкающей чешуе блесток. Прическа валиком, и над прической — диадема, как у царицы.
Это знаменитая исполнительница цыганских романсов г-жа Тамара.
Она нервно поет:
Вчера вас видела во сне
И полным счастьем наслаждалась.
Ах, если б можно было мне,
Я б никогда не просыпалась!
(Конечно, «щастиэм» вместо «счастьем» и «манэ» вместо «мне».)
Но — общий восторг, крики «браво», «бис», и подают из оркестра корзины цветов. Г-жа Тамара, сверкая длинными серьгами, наклоняется к цветам и осторожно вынимает из них письма. (Как странно!) Она прикладывает письма к бюсту.
А в антракте с какого-то алебастрового мостика я смотрю вниз, положив подбородок на холодные перильца. Подо мной, по фойе бельэтажа, бежит толпа. На спинах толпы сидят верхом матросы — нижние чины. У них в руках шапки с новенькими черно-оранжевыми георгиевскими лентами. Им, как видно, неудобно, стыдно, страшно. Их подбрасывают в воздух. Они взлетают раскоряками, висят над вздернутыми манжетами, над растопыренными пальцами. Мотаются синие воротники «голанок», вьются ленты. Голые шеи толсты, темны, круглы. Болтаются новенькие Георгиевские крестики четвертой степени. И гром духового оркестра. Матросские головы наголо острижены под машинку, под нуль; они — голубые, как летом у писателя Новикова-Прибоя.
А ведь это были, быть может, те самые матросы, которые через десять — двенадцать лет с наслаждением палили по Зимнему и орудовали в Румчероде.
…А в роскошном и очень дорогом театральном буфете, на стойке с крахмальными салфетками, привязанными к серебряным кольцам, — коробки шоколадных конфет, вазы с апельсинами и грушами, сифоны, тарелки, выложенные крошечными круглыми бутербродами с паюсной икрой, острой и блестящей, как вакса (двадцать копеек штука), бутерброды побольше, с половиной крутого яйца и анчоусом (десять копеек штука), рюмочки водки и в высоких мельхиоровых вазах с султанами крашеного ковыля их раструбов — серебряные шоколадные бомбы с сюрпризами.
И все это — ужасно дорого, недоступно.
Туманно-синие зеркала сверхъестественной вышины. Непонятно, где движется толпа: в глубине зеркал или в глубине фойе. И вкус сельтерской воды с недостаточно сладким сиропом, бьющей в нос и щиплющей: нежный детский язык; вкус углекислого газа, гальванический вкус свинцового сифонного патрона…
1934
Однажды летом 1913 года произошло событие, оказавшее влияние на всю мою дальнейшую жизнь. В копеечной газете «Маленькие одесские новости» появилась заметка, приглашавшая всех молодых поэтов пожаловать к шести часам вечера в помещение местного литературно-артистического клуба. Этот клуб попросту назывался «литературка».
Меня охватило сильнейшее волнение.
Я не знал, как мне быть: идти или не идти?
Я писал и даже иногда печатал в местных газетах стихи. Это так. Но каждый ли пишущий и печатающий стихи имеет право называться поэтом?
Читать дальше
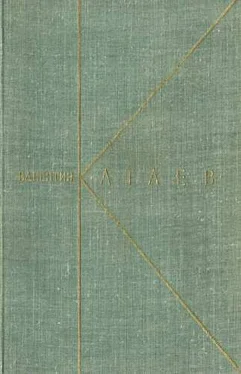










![Валентин Катаев - Флаг [Рассказы]](/books/427734/valentin-kataev-flag-rasskazy-thumb.webp)
