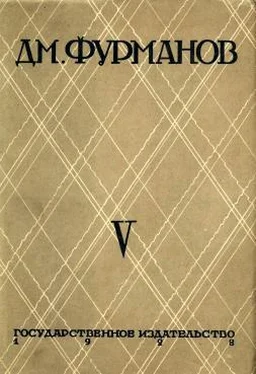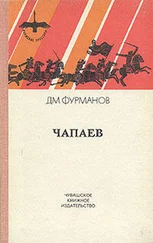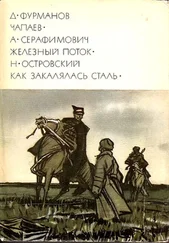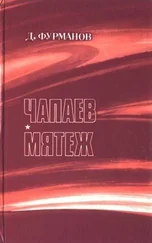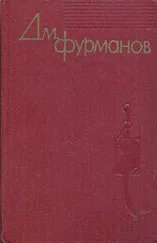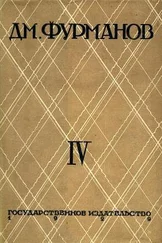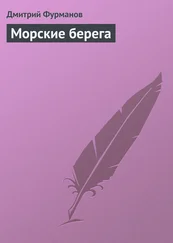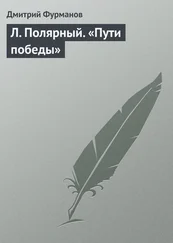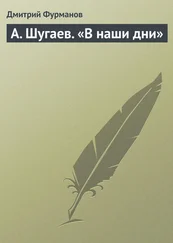Но он рассеивался. Мысль прояснялась и я снова мог привести в порядок разбредшиеся формулировки. План у меня был широкий; по некоторым пунктам намечался исторический обзор, но так боялся долгих остановок, что почти совершенно не заглядывал в свои наброски и говорил лишь по вдохновенью. А ведь еще два часа впереди! Чем я заполню эти часы? Хватит ли материала? Сумею ли я связать его в одно целое? Иногда проносилась стремительная мысль: вот-вот все оборвется, я притихну, оскандалюсь и попаду в неудобнейшее положение. Мысль шальная, но одно мгновенье она занимала меня среди хаоса иных мыслей. Я чувствовал и видел лучше, чем кто-либо свои недостатки; поражался иногда своим беззаконным скачкам, — стремительным забеганьям вперед, неуклюжим возвращеньям вспять, — к тому, о чем говорилось. Но в то же время я чувствовал и другое: в этих скачках проявлялась бессознательно какая-то особенная хитрость, какая-то ловкость, которая даже передо мною самим затушевывала беззаконности скачков. Находились слова, которые связывали предыдущее с последующим и при тождестве мыслей как будто говорили о новом.
Большую роль сыграл здесь звучный, громкий голос, Он увлекал иногда и меня самого. Я не хвалу себе пою, нет: я только передаю то ощущение, которое родилось во мне под влиянием собственных слов. Опасенья мои, что материала не хватит и на сорок минут, не оправдывались: на деле получилось, что проговорил я два с половиной часа. Отмечаю с особенной гордостью, что за эти два с половиной часа видел много серьезных вытянутых лиц, направленных к столику. Всего собралось до двухсот тридцати человек. Больше кинематограф вместить не мог. Многие стояли в дверях. Беседу провел без остановки. Голос порою сдавал от усталости, но вдруг оживлялся, крепнул и к концу так свежо звучал, что, кажется, продержался бы еще новых два с половиной часа.
Скачки были страшные. Из одной отрасли перебрасывался в другую — на собственный взгляд непоследовательно; затронул много вопросов, с которыми сам знаком лишь поверхностно, и с такой уверенностью их трактовал, что можно было подумать, будто их разбирает осведомленный, компетентный человек. Иногда, моментами, в голове была совершенная пустота, и я не знал о чем говорить. Но здесь спасала начитанность. Находились красивые слова; они сами собою срывались с языка, и мне сдается даже, что эти именно места и оставляли наибольшее впечатление, как наименее трудные, как наиболее лирические. Часто я мыслью плелся за потоком случайно срывавшихся слов. Сами собой зарождались из этих случайных слов вопросы, разбирать которые не имел в виду — таков, напр., вопрос о роли духовенства. Вообще это состояние, — ну будь, что будет! — это состояние охватывало и увлекало несколько раз. Не надеялся я на аудиторию, — думал, что утомятся после первого получаса и будут мешать своим хождением, покашливаньем, разговором… Ничего подобного не случилось. Все время взрослая публика держалась спокойно и внимательно слушала. Только однажды слушатель не мог сдержаться и среди глубокого молчания вдруг захлопал, закричал неуместное «браво». Это было один раз. Затем, два-три раза переходили дети с места на место — и только. Потом, по окончании речи, подошли ко мне две барышни и просили списать заключительные слова лирического тона.
Эти два с половиной часа прошли незаметно, а сколько осталось совершенно незатронутых вопросов! Обнаружилось это — увы! — лишь после лекции, когда я взглянул в предполагавшийся план. Ясно одно: мы, интеллигенция, оказались совершенно неготовыми. В социальных вопросах приходится разбирать все с азбуки. Берешь не знанием, а смелостью, так что в серьезном споре со знающим человеком пожалуй что на каждом шагу пришлось бы выбираться из грязного положения. Несколько примиряет с этим незнанием искренность порыва и его полное бескорыстие.
12 марта 1917 г.
Эсеры устроили две беседы на тему: «Смысл совершающихся событий». Одна — Архангельского М. И., другая Салова И. А.
Бледно, скучно затронуты были ими события; у Архангельского не нашлось собеседников. А у Салова получилась непроизводительная пустая болтовня. Защищали и опровергали программу эсдеков, ловили друг друга на терминах, на случайных оговорках. Притянули френологию, антропологию, биографию Маркса, врожденность и наследственность… Много было пустейшей болтовни праздных людей, а вопросы текущего момента остались в стороне.
«Нет, вы что же! — говорил один из них: — зачем же перетасовывать мои слова?! Вы лучше почитайте в свободную минуту Шопенгауэра, или возьмите Ницше».
Читать дальше