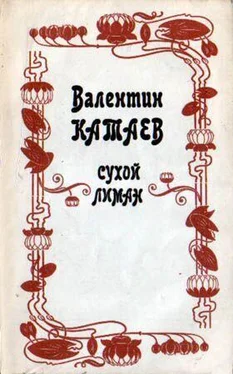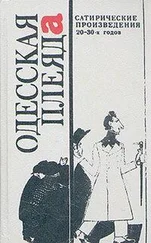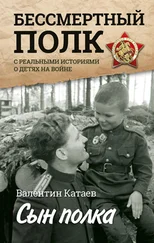Папа совсем потерялся в несвойственной ему среде толчка. Он неумело торговался, опасливо вынимая портмоне, близоруко копался в нем, и в конце концов были куплены у солдата-инвалида юфтевые сапоги, кожаный пояс, гимнастерка из очень толстого японского сукна защитно-желтого цвета порт-артурских времен, белая меховая папаха и черная кожаная куртка на бараньем меху. Все эти вещи были хотя и целые, но явно поношенные. Их выбирал я сам, торопясь и делая вид знатока.
Отец только морщился и торопливо расплачивался, желая поскорее уйти из этого неприличного места.
В галантерейной лавочке приобрели защитного цвета погоны вольноопределяющегося первого разряда, обшитые оранжево-черным шнурком, а также две скрещенные латунные пушечки для этих погон.
Отец казался удрученным непредвиденными расходами, хотя и понимал, что это плата за мой патриотический порыв.
Господи, если бы обошлось только этим!
Отцу было страшно подумать, что война может не пощадить меня, его мальчика. При одной этой мысли его глаза краснели от скупых слез, и он, скрывая их, протирал пенсне носовым платком.
Превращение исключенного гимназиста в добровольца-патриота совершилось быстро. В новом своем качестве я успел до отъезда, как тогда говорилось, на театр военных действий показаться всем своим гимназическим товарищам и многим другим, в особенности знакомым гимназисткам, в том числе и Ганзе, которая не выразила по этому поводу никаких чувств.
Что касается Миньоны, то она на прощание меня перекрестила, но не поцеловала, на что я втайне рассчитывал.
Ганзя и Миньона не были знакомы, так как Миньона не училась в гимназии, а по состоянию здоровья получила домашнее образование.
Я не представлял, какой у меня странный, если не сказать идиотски-глупый, вид в больших, не по ноге сапогах, нелепой кожаной куртке и белой папахе, лихо заломленной на затылок, что не соответствовало ни общепринятой армейской форме, ни моему еще полудетскому прыщеватому лицу с узкими испуганными глазами.
В таком виде, не дождавшись ни елки, ни Нового года, я и появился в переполненном вагоне третьего класса.
Миньона навязала меня в попутчики офицеру, возвращавшемуся из отпуска бригаду ее отца. Офицер ехал в вагоне второго класса. Я вообразил, что в качестве добровольца и спутника боевого поручика тоже смогу устроиться вместе с ним в мягком вагоне, и даже уже втиснул в купе свои клетчатый чемодан, но поручик, вежливо улыбаясь в подстриженные усики, выставил меня, заметив со строгой чисто армейской деликатностью, что нижним чинам, хотя и добровольцам, не положено по уставу ездить в мягких вагонах, а только в жестких третьего класса. Я был неприятно поражен, но лихо откозырял поручику и перетащил свои вещи в воинский вагон третьего класса, сразу же окунувшись в его густую атмосферу пота, сапог и махорки. Подумав, не без горечи, впрочем: а ля гер ком а ля гер, — афоризм, весьма популярный в то время: на войне как на войне!
«Незнакомые люди и безотчетная грусть, страх… неизвестного… Потом Минск…» — писал я Миньоне.
Однако между безотчетной нежной грустью, туманно адресованной генеральской дочке, между страхом чего-то неизвестного и прибытием в тыловой город Минск произошли еще некоторые события, о которых я в своем письме Миньоне умолчал, а потом и вовсе забыл, а на склоне лет вспомнил.
Главное из этих событий было то, что я подружился с почтальоном, проводником и старшим кондуктором поезда, которые поревели меня в служебный багажный вагон в голове поезда, где я очень удобно устроился на большой каменной шубе почтальона, разостланной поверх железной клетки, предназначенной для перевозки по железной дороге собак и по случаю военного времени пустующей.
Дружба со старшим кондуктором завязалась еще в буфете на станции Бахмач, где я угостил старшего кондуктора бужениной и двумя бутылками довольно крепкого медового напитка, заменившего водку и вино ввиду все того же военного времени. К нам присоединились проводник и почтальон. Я всех угощал и сам порядочно выпил и рассказал своим новым друзьям, что еду на позиции поступать в артиллерийскую бригаду знакомого генерала, он отец барышни, в которую я влюблен. Новые друзья вполне одобрили мое намерение, а почтальон выразил здравое соображение, что в артиллерии куда меньше убивают, чем в пехоте, и что при тесте-генерале можно легко выйти в офицеры.
Эта мысль никогда явно не приходила мне в голову и показалась унижающей мой патриотический порыв, но все же незаметно мне польстила.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу