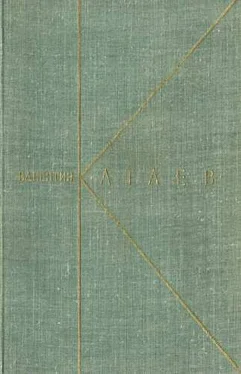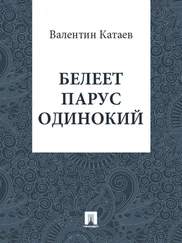Не хватало еще опоздать!
Семейство Бачей бросилось на пристань, не торгуясь нашло ялик и скоро очутилось на палубе парохода, который за это время уже погрузился и, готовый к отплытию, стоял на рейде и давал первый гудок.
Прощание же с гидом превратилось в настоящую драматическую сцену. Получив следуемые ему две лиры и стоя в качающейся лодке на своих выносливых ногах старого волка, в то время как Василий Петрович с семейством уже находился на штормтрапе, он начал просить бакшиш. Он и вообще отличался красноречием, свойственным его беспокойной профессии, но теперь он превзошел самого себя. Обычно он говорил одновременно на трех европейских языках, весьма ловко и своевременно вставляя самые необходимые русские слова. Теперь же он говорил главным образом по-русски, вставляя французские фразы, что придавало его речи экспрессию ложноклассических трагедий.
Язык его монолога был темен, но смысл ясен. Протягивая руку, сверкающую медными перстнями с большими искусственными брильянтами, с такой же страстью, с какой он описывал достопримечательности, он теперь описывал бедственное положение своей несчастной семьи, обремененной парализованной бабушкой и четырьмя малютками, лишенными молока и одежды. Он жаловался на старость, на плохие отношения с константинопольской полицией, которая отнимает у него почти все заработки, на хронический катар желудка, на чудовищные налоги и на конкуренцию, буквально убивающую его. Он умолял пожалеть дряхлого, необеспеченного турка, всю свою жизнь отдавшего служению туристам. Он горестно поднимал густые брови с проседью. По его щекам текли слезы.
Все это могло бы показаться обыкновенным шарлатанством, если бы не настоящее человеческое горе, светившееся в его испуганных каштановых глазах. Василий Петрович не выдержал, и в протянутую руку гида посыпалась последняя турецкая мелочь, которая нашлась в карманах Василия Петровича.
Приближался вечер, а вместе с ним в неподвижном, отяжелевшем от зноя воздухе чувствовалось томительное созревание грозы. Она ниоткуда не шла, она как бы сама собой зарождалась над амфитеатром города, среди мечетей и минаретов. Когда со скрежетом поползла вверх стопудовая якорная цепь, а затем перегруженный пароход, осевший ниже ватерлинии, стал медленно поворачиваться на рейде, солнце уже потонуло в грозовых тучах. Сделалось так темно, что в каюте и салонах зажгли электричество. Из люков дохнуло горячими запахами кухни и машин. Панорама города, лишенного красок, еще больше усиливала грозовую зелень Золотого Рога.
Пароходные машины дышали тяжело, с натугой. Хотя поверхность воды казалась неподвижной, как литое стекло, пароход начало очень медленно покачивать.
Павлик, только что через силу съевший последний кубик рахат-лукума, густо посыпанного сахарной пудрой, который показался ему слишком мучнистым на вкус и как-то неприятно, слишком податливо-вязким, вдруг почувствовал во рту противную металлическую кислоту. Начало неудержимо сводить челюсти. Резко-зеленая, прозрачная вода, чем-то напоминающая рахат-лукум, так тягостно поразила его зрение, что он зажмурился и тут же испытал ощущение полета на качелях. Он сделал усилие, чтобы выговорить «папа, я кажется, отравился», но не успел, так как у него начался приступ морской болезни.
В это время как раз над самым полумесяцем Айя-Софии в угольно-черных тучах, среди минаретов, вспыхнула ломаная молния, и вслед за этим все вокруг потряс такой удар, как будто бы небо раскололось пополам и его обломки посыпались на город и на рейд. Пронесся вихрь, гоня по холмам смерчи пыли. Вода закипела. А когда, обогнув Серай Бурну и зарываясь в пенистые волны, вошли в Мраморное море, то оно, все исписанное зигзагами шквалов, и впрямь показалось мраморным.
Но Мраморного моря Петя уже не увидел, так как его постигла участь Павлика. Они оба, белые как мел, пластом лежали в душной каюте. Отец метался между ними, не зная, что предпринять. А горничная-итальянка с привычной сноровкой бегала по коридору, меняя тазы.
Дело, конечно, было не только в качке и восточных сладостях. Мальчики переутомились от впечатлений, от жары, беготни, уличного шума. Морская болезнь скоро прошла, но поднялась температура — они горели, бредили. Пароходный доктор — итальянец осмотрел их со всеми традиционными приемами старого европейского врача, педанта: он сильно прижимал их языки серебряной ложкой, взятой в буфете первого класса; мял их голые животы опытными твердыми пальцами; выстукивал молоточком, выслушивал в трубку, а также без трубки, приложив к телу большое, мясистое ухо; крепко держал за пульс, следя за стрелкой больших золотых часов, в крышке которых с внутренней стороны отражался круглый иллюминатор и вода, быстро бегущая мимо него; грубовато шутил по-латыни с испуганным отцом, чтобы вдохнуть в него бодрость; ничего особенно опасного не нашел, но велел три дня оставаться в постели, дал слабительные порошки и милостиво удалился, прописав куриный бульон с сухарями и легкий омлет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу