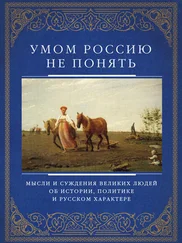Издали послышалось шуршание породы, потом снова затихло.
— Это крысы шуруют, — сказал боец. — Какая нам все-таки судьба выпала тяжелая. Я с детства на тяжелых работах был, и на фронте мне ружье тяжелое досталось — бронебойное, и смерть выпала тоже тяжелая.
— А я ботаником был, — сказал Костицын и рассмеялся.
Он всякий раз смеялся, вспоминая, что был ботаником. То, прежнее время представлялось ему ослепительным, светлым — он забыл, какие были у него тяжелые нелады с заведующей кафедрой и что один из ассистентов написал на него заявление, забыл, как провалил он при защите свою кандидатскую работу и должен был, мучаясь самолюбием, второй раз защищать. Здесь, в глубине заваленной шахты, прошлое представлялось ему то лабораторным залом с настежь раскрытыми большими окнами, то светлой, полной росы и утреннего солнца лесной поляной, где он руководит студентами, собирающими растения для институтских гербариев.
— Нет, то не крысы, то наш дед вертается, — сказал второй боец.
— Где вы здесь? — крикнул издали Козлов.
Они прислушивались к его дыханию. Оно было уже слышно за несколько шагов, и в дыхании этом они ощутили нечто тревожное, радостное, заставившее их всех насторожиться и встрепенуться.
— Ну, где вы? Тут, что ли? — нетерпеливо спросил Козлов. — Не зря я с вами остался, ребята, давайте скорее к командиру, ходок открылся.
— Я здесь, — сказал Костицын.
— Ну, товарищ командир, только пополз я к стволу и сразу учуял, — струя воздушная; по ней пополз — и вот дело: завал наверху задержался, закозлило его, а до первого горизонта по стволу свободно, ну, и трещина там на первый горизонт от сотрясения, с нее и тянет струя. А ведь с первого горизонта квершлаг есть метров на пятьсот, в балку выходит, я тот квершлаг тоже проходил в десятом году. Пробовал я полезть по скобам, метров двадцать поднялся, а дальше скобы повыбиты, тут уж я своей последней спички не пожалел, посветил — ну, как я вам раньше говорил, так и было. Там скобок с десяток нужно поставить, камень разобрать, что ствол обмурован, метра два пробить и на выработанный горизонт пройти.
Все помолчали.
— Ну вот, — спокойно и медленно сказал Костицын, чувствуя, как сильно бьется его сердце, — ну вот, я ведь говорил вам, что нас тут не похоронишь.
Один из бойцов вдруг заплакал.
— Неужто, неужто мы опять свет увидим? — сказал он.
Второй тихо сказал:
— Как вы, товарищ капитан, знать все это могли? Я думал, вы так только, чтобы нас поддержать, про надежду говорили.
— Ну, я командиру сразу про первый горизонт сказал, как еще женщины в шахте были, от меня его надежда, — самоуверенно оказал старик, — он только молчать велел, пока не подтвердится.
— Жить-то хочется, ясно, — сказал боец, который заплакал и теперь стыдился своих слез.
Костицын поднялся и сказал:
— Я должен посмотреть и убедиться, после этого вызовем сюда людей. А вы, товарищи, здесь ждите; если кто придет из отряда, ни слова не говорите до моего возвращения. Ясно?
Бойцы снова остались одни.
— Неужели свет увидим? — сказал один. — Даже страшно делается, как подумаешь.
— Герой, герой, а жить-то хочется, — неодобрительно сказал тот, что плакал и все еще стыдился своих слез.
Вряд ли на земле была когда-либо работа мучительней и трудней той, что делал отряд Костицына в эти дни. Беспощадная тьма давила на мозг, мучила сердца, голод терзал людей на работе и во время краткого отдыха. Люди лишь теперь, когда появился выход из казавшегося им безнадежным положения, почувствовали всю страшную тяжесть, давившую на них, измерили муки того ада, в котором находились. Самая пустая работа, которая у здорового, сильного человека при свете дня заняла бы короткий час, растягивалась на долгие сутки. Бывали минуты, когда изможденные люди ложились на землю, и им казалось: нет силы, которая могла бы поднять их. Но проходило некоторое время, и они вставали и, держась рукой за стену, вновь шли делать свое дело. Некоторые работали молча, медленно, обдуманно, боясь потратиться на лишнее движение; другие лихорадочно, со злым уханьем работали короткие минуты, а затем, сразу выдохшись, сидели, безвольно опустив руки, ждали, пока к ним вернется сила. Так жаждущий терпеливо и упорно ожидает, пока соберется несколько мутных капель влаги из пересохшего источника. Те, что вначале особенно радовались и считали, что выход из шахты дело двух-трех часов, теряли веру и надежду. Те, что не верили в скорое спасение, чувствовали себя спокойней и работали ровней. Иногда во мраке раздавались крики отчаяния и бешенства.
Читать дальше





![Василий Гроссман - На еврейские темы [Избранное в двух томах. Книга 1]](/books/405742/vasilij-grossman-na-evrejskie-temy-izbrannoe-v-dv-thumb.webp)