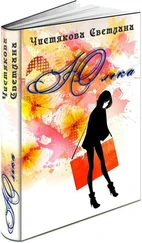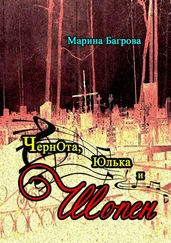А в один прекрасный день десятка из кошелька пропала. Я даже не помню хорошо, была или нет в кошельке — везде обыскала, его спросила, пожал плечами, вылупился на меня. Вылупился, подошел к холодильнику и возится там: опять карманы набивает! Комсомольское собрание, говорит, затянется, необходимо подкрепление. Ну, ладно.
Я тоже собиралась куда-то и прошу: подожди, вместе выйдем, по дороге… Но пока квартиру запирала, он уже был таков. Только слышу — внизу дверь хлопнула. Неприятна мне стало, горько: вот уж и не нужна, и с матерью пять минут по улице не хочется пройтись, а как прежде любил.
Выхожу с этими мыслями из подъезда и вижу — его пальтишко по другую сторону дома за угол метнулось. Куда бы?
Будто что толкнуло меня. Я — следом! А там улица длинная вдоль заводского забора, на другой стороне палисаднички. Смотрю — шагает вдоль забора, не торопится, вразвалочку. Что такое? При чем же комсомольское собрание?
Перебежала я на ту сторону, прячусь за палисадниками, за углами, за деревьями. Далеко так прошли мы с ним, обогнули заводскую территорию, свернули в улицу, где и не была никогда, вышли к новым домам. Пока пряталась, куда-то девался. Огляделась — вокруг уже ни деревьев, ни посадок, степь голая, а в ней вдалеке — будка железнодорожная. Дома стоят тыльной стороной, только у одного подъезды сюда выходят. Добежала, вошла в крайний, чтобы остальные были в поле зрения. Стала ждать.
Два часа простояла я в том подъезде. Неловко, люди проходят, оглядываются. Пройдут — я опять к двери, к щелочке. Стало мне казаться — пропустила его. И даже подумалось, а что если не здесь, а в той будке железнодорожной? Раза четыре выходила из нее молодая дивчина, поезда пропускала. Издали было видно: краснощекая, черноволосая. Неужели, думаю, приголубила? Или с какой компанией неприятной связался? Что у нас, матерей, на уме?.. Странный он в последнее время. И десятка эта… Мельчайшие детали перебрала. Сердце стучало-стучало от ожидания — и стучать перестало, отчаялась я, погасла. Вышла из подъезда, стою одиноко, смотрю в поле на дурацкую эту будку — домой надо идти.
И вдруг из той самой будки вываливается он, Митька мой!
Растерялась я, обратно в подъезд! Переждала, пока прошел, стою — сердце унять не могу. Ну вот, думаю, довоспитывалась. Хоть посмотреть, на нее еще раз, хоть бы вышла. Нет, не выходит. И я решилась. Ну что, правда, зайду и погляжу, возможно — поговорим, ведь я мать, меня касается, а от него ничего не добиться.
Иду. Прямо в домик иду. Раскрываю дверь — и едва на ногах удержалась. Кудрявая, румяная, стоит она у стола, рубит капусту. А на железной кровати в углу — Ленка. Сидит, обвязанная по плечам крест-накрест моим платком, и ребеночка на руках держит. Уставилась на меня — слова не вымолвит. И я не могу…
Сбросила шубу на пол, шагнула к ней, обхватила обоих их — не помню ничего. Кажется, только и говорила: «Дураки, дураки, дураки-то какие…» Взяла я его на руки, прижала к себе, кровиночку мою — слезы градом. А я скупа на слезы. Скупа на нежности. Но тут мы с ней наревелись. Максимка-то ведь тоже в кофту мою старую укутан был — я эту кофту давно уже и не носила.
Прибегаю домой, накричала на Митьку, что дурак он круглый, позвонила мужу: пришли машину немедленно! Что за срочность? Надо, потом расскажу. Забрала Митьку, поехали за ней. Одеяло свое с кровати взяла — у них ничегошеньки не было.
Вот так… Как сказала она матери, что беременна — уже заметно стало, та в крик и выгнала из дома. Она, Лена наша, гордая очень, ушла, конечно, И не вернулась больше. Набрели они с Митькой на эту будку, случайно разговорились с той кудрявой, поделились, а она и предложи у нее пожить. Сменщица есть — и с той договорилась. Если бы это не со мной, не поверила бы, что может такое в наше время произойти…
Слезы набегали на глаза Елизаветы Михайловны, она не смахивала, смотрела сквозь них на белые стены, на матовые плафоны, на женщин — у тех тоже глаза блестели, и все плыло туманом.
— Ну, а потом как? — донеслось до нее.
— Потом просто. Стол накрыли на четверых. Приезжает сам, кивает на тарелку лишнюю: «Ждете кого?» — «А с этого часа, говорю, отец, нас за столом будет не трое, а четверо». И вывела ее. А Максимка спал.
— А как же ее матушка, когда узнала?
— Ничего, пришла, постояла, поджавши губы, посидела, Максимку даже на руки не взяла. Простить до сих пор не могу.
— Не можете, а сами не хотели ее, Лену вашу! — сказала, неожиданно зазвенев голосом, из своего угла Юлька. — Попробуй тогда сынок скажи вам, все бы сделали, чтоб избавиться, сюда бы отправили, уговорили бы — вы умеете!..
Читать дальше