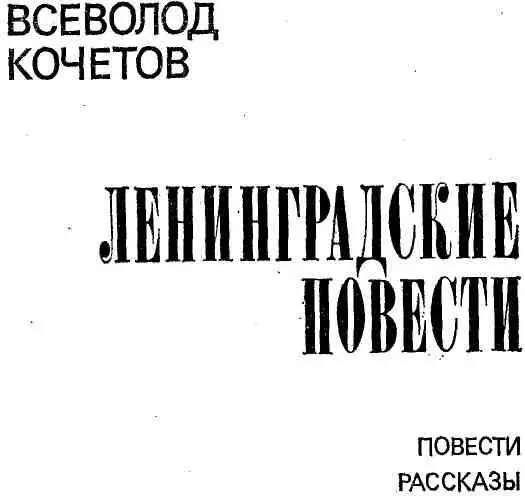Дверь теплушки была раздвинута, и в черный ее квадрат со всего маху врывался ветер теплой июльской ночи. Стучали колеса, вспыхивали, налетая из мрака, зеленые огоньки семафоров, теплушку мотало на стрелках, и от «козьей ножки» Бровкина под нары сыпались махорочные искры.
— Вагон спалишь, дед! — сказал чей-то встревоженный голос. — На, возьми папиросу.
— В папиросах дым резкий, — ответил Бровкин. — Кашляю с них. Махорка мягче. — Он обернулся на голос.
Фонарь «летучая мышь» дрожал на вбитом в старые доски гвозде; фитиль за черным от копоти стеклом давал скудный мигающий свет; в нем то возникали, то исчезали, расплываясь в сумраке, фигуры людей, застывших на полу, на нарах, на скатках шинелей и вещевых мешках. Не различив того, кто предлагал ему папиросу, Бровкин сделал последнюю затяжку, выбросил окурок в темноту и облокотился о кожух пулемета. Его нисколько не обидело это мальчишеское «дед». Сивоусый, седой, он давно привык к тому, что возраст его пареньки на заводе излишне завышали. Да старый лекальщик и в самом деле несколько лет назад стал дедом: и у старшей дочери, и у сына родились свои ребятишки. Он сплюнул горькую махорочную слюну, прислушался. За спиной его негромко разговаривали:
— Есть семь способов правильного обертывания портянки. А ты какой-то восьмой выдумал.
— Так я же в армии не служил. Я ботинки ношу. На кой леший мне было эти семь способов изучать?
— Натер же ногу?
— Натер.
— Вот тебе и «на кой»! Нога знаешь как должна чувствовать себя в портянке, если правильно ее обернуть? Что барыня в пуховиках. Нежась и млея.
Бровкин узнал басок Тишки Козырева, своего сменщика, горячего и путаного парня. Когда Тишка сдавал или принимал смену, он непременно затевал спор, а не то и скандал целый, — в том смысле, что сменщики, дескать (подразумевался, понятно, Бровкин), все дело портят, станок разладился, мусору вокруг до ушей, работать так дальше, по старинке, он не может, — и делал вид, будто терпит Бровкина из снисхождения к годам: семья, мол, дети да внуки.
«Батька у тебя пролетарского корня, — пытался Бровкин обрывать в таких случаях Тишку. Сивые усы у него приходили в грозное движение при этом. — Откуда сын таким звонарем произошел? Словоблуд ты, Тихон, трепач и ёрник».
Тишка в ответ только взглянет с косой, непонятной усмешечкой.
Но случалось и так, что, когда Бровкин, нарушив обещание, каждое воскресенье даваемое своей Матрене Сергеевне, в понедельник с похмелья тыкался носом в станок, роняя то ключ, то резец, то готовую деталь, Тишка, ни слова не говоря, укладывал его на войлоке за фанерной конторкой начальника цеха, укрывал потеплее и отстаивал у станка еще одну смену. Бровкин наутро примется благодарить, но Тишка отмахнется: «Как-нибудь в другой раз объяснитесь, Василий Егорович. А сейчас работать, понимаете ли вы, работать надо. Страна кронциркулей ждет». Что ни слово, то непременно подковырочка.
Даже и здесь вот, сменив спецовку на гимнастерку, Тишка остается самим собой: никто его не просит, а вяжется к людям. Ну что травит паренька с этой портянкой? Тот спать, поди, хочет. Третьи же сутки гоняют их в эшелонах по пригородным станциям, третьи сутки слышат они гул не таких уж и далеких бомбежек и артиллерийских боев. Нервы у всех что струны. Но в общем-то прав он, Тишка: многое надо знать молодому парню, чтобы стать хорошим солдатом; и портянка совсем не последнее дело. По себе это известно Василию Егоровичу. В четырнадцатом году под крепостью Новогеоргиевском крепко пострадал он из-за нее, из-за портянки. На каком-то длинном, тридцатикилометровом переходе до того натер пятку, что уже и шагу шагнуть не мог. Добрались до окопов, повалился от усталости, заснул. Нет чтобы переобуться-то, перемотать портянку. А под утро их в атаку подняли. Выскочил на бруствер вместе с другом своим, с отцом Тишкиным, Федей Козыревым, пробежал маленько сгоряча, а дальше — будто режут ему ногу тупыми ножами — присохла портянка к ране и рвет ее враздер по живому. А тут, как на грех, спину ему показывает немецкий офицер в каске с шишаком. Хотелось, ох как хотелось взять живым да целеньким вильгельмовца. Портянка не позволила. Взял немца не он, Бровкин, а Федя. Да и «Георгия» за это Федя получил.
Читать дальше