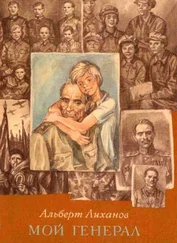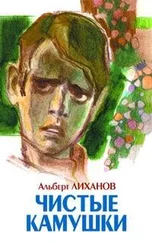Этим немцам было тоже что-то возле этого – двадцать четыре – двадцать шесть, не больше, но они были совсем другими, впрочем, ничего в этом особенного и нет. Они, пожалуй, и родились-то после войны, вроде его Анки.
В этом ничего особенного нет, но другая мысль вдруг больно резанула Василия Лукича. Ведь мог бы вон тот, белобрысый, или его товарищ, могли бы они быть там, тогда… И мог бы вот этот, белобрысый, а не тот, с растерянным лицом, крикнуть, увидев его «Ахтунг!»… Василий Лукич снова припомнил лицо немца, которому он размозжил голову. По дороге в госпиталь, в тесном санитарном поезде, да и потом, в госпитале, он все думал, тот ли это немец, и выходило, верней всего, что не тот, не могло быть такого совпадения, чтобы ему попался именно тот, который наследил в избе… Но тогда для него это был тот немец. Василий Лукич отметил растерянность на его лице, разглядывать его больше не было времени, и сейчас он вдруг подумал, что ведь, в сущности, тот немец с растерянным лицом ничем не отличался от этих двух парней. Ведь и они могли быть там?
Василий Лукич жевал погасшую папироску, шумно затягиваясь, и неуклонно шел за немцами.
Ярмарочные ларьки кончились, дальше начинался парк, рассеченный асфальтированными пустынными дорожками.
Немцы шли по одной из них, и Василий Лукич на минуту остановился, переведя дыхание и раздумывая, как быть дальше. Теперь уже ни за кого не спрячешься – впереди безлюдная дорожка, и он один против трех немцев.
Но немцы удалялись, и Василий Лукич, словно загипнотизированный, двинулся дальше.
Парк походил на тот осенний лес. Тихо шурша, падали на землю пестрые листья, пахло прелой травой и желудями.
Немцы неожиданно сели на лавочку и теперь уже все втроем пристально, не таясь, разглядывали Василия Лукича.
Сердце заметалось в нем, раскачиваясь, словно маятник, но отступать было поздно, да и не в его обычае, и Василий Лукич, замедляя шаг и все еще жуя погасшую папироску, двигался к ним.
Все было, как тогда, – и лес, спокойный и прозрачный, и боль из-под содранной коросты, свежая, нестерпимая боль, и немцы, которых он наконец-то, столько времени погодя, рассмотрел.
Василий Лукич медленно подошел к скамейке и в упор взглянул в их лица.
Да, все было, как тогда, – и лес, и немцы, только ни у них, ни у него не было оружия. Да еще резала спину протезная нога, память войны. Но это ничего не меняло для него. Василий Лукич в упор глядел на немцев и желал увидеть в их глазах, как тогда, растерянность…
Он смотрел то на женщину, то на белобрысого, то на его дружка, вглядывался в их лица твердо и требовательно и вдруг… вдруг вздрогнул…
Немцы – все трое! – смотрели на него не растерянно, нет… Они смотрели на него с жалостью. Василий Лукич знал такие взгляды. Так, жалеючи, глядели на него женщины, особенно тогда, после госпиталя, когда он, седой, одноногий, совсем мальчишка, шел по деревне, где они жили с Ксешей. Война еще не кончилась, она кончилась только для него, и, глядя на колченогого парня, женщины, конечно, думали о своих ребятах, о своих мужиках и, жалея его, Василия, заранее оплакивали тех, кто вернется, как он, инвалидом, да и вернется ли вообще…
Но тогда были свои. Деревенские. Бабы…
Все было так, как тогда, – и лес, и немцы… Но это были не те немцы… Те немцы не могли глядеть на него так…
Ах, черт, как глупо, как нехорошо получилось. Он смотрел на чужих людей со злостью и ненавистью, думал о своем, а они отвечали ему жалостью. Жалостью…
Все было так, как тогда, – и лес, и немцы, но это были не те немцы… Не те! Не те!
Василий Лукич потоптался в растерянности и повернулся, чтобы идти дальше.
Неожиданно белобрысый парень, тот, который кричал «Ахтунг!» в ювелирной лавке, вскочил и полез в карман. «Что за черт?» – едва успел подумать Василий Лукич, а белобрысый вытащил что-то блестящее.
– Битте! – сказал он и протянул руку к Василию Лукичу.
В руке у него щелкнуло, и столбиком поднялся язычок пламени. «К чему это он?» – подумал Василий Лукич и тут только сообразил, что держит во рту изжеванную папироску.
Он вздохнул, прислонил папироску к огню, пыхнул сизым дымком и молча кивнул, благодаря.
Он не смог сказать «спасибо» все-таки.
Белобрысый отступил в сторону, а Василий Лукич зашагал, постукивая, по аллее.
Возвращаться назад было неловко, и он ушел довольно далеко, пока не выбрался из парка.
Листья шуршали под деревяшкой и заглушали ее стук.
Было тихо и тепло.
Василий Лукич расстегнул дрожащей рукой ворот рубашки и вдруг вспомнил, что ничего ведь так и не купил Ксеше…
Читать дальше