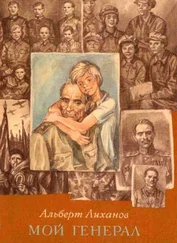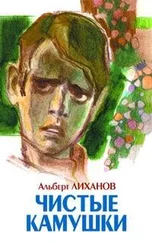Ох, молодо – зелено! Только что паренек печалился, спрашивая о Кате, а через минуту глаза его светились детским счастьем, он хохотал, чуб трепыхался на ветру, и ни про какую Катю он уже не помнил, весь, до последней косточки, отдавшийся стремительному кружению.
Пряхин не осуждал паренька, напротив, ему нравились эти мгновения чужого и такого простого, такого наивного счастья.
А солнце над городком поднималось днем все выше, и никакого дела не было ему до войны, до беды, до голодухи. Выбираясь из сумерек фанерного барабана, Алексей жмурился в солнечном море, непроизвольно улыбался, потом строжал, полагая, что бессмысленная радость его неуместна, ни к чему, делился этой мыслью с Анатолием.
Гармонист обзывал его дураком.
– Если хочешь знать, – говорил капитан, – солнышко все разумеет. Почище нас с тобой. Война идет, а оно знает – скоро войне конец. И всем об этом сообщает. – Смеялся. – Ему же с высоты виднее!
– Слушай, мудрец, – спросил его однажды Пряхин, – с какого ты года?
– Родился я, – ответил гармонист, – седьмого ноября семнадцатого. По новому стилю. Человек нового мира.
– Что? – Пряхин выкатил глаза. Анатолий всегда вроде как пример ему подавал, казался Алексею если и не старше, то хотя бы ровесником, а ему двадцати восьми нет.
Новым взглядом окинул Пряхин гармониста. Это верно – черные очки и синие оспины на лице человека калечат, делают старше, но не может быть, чтоб настолько. Ну и досталось тебе, человек нового мира, хлебнул, видать, а ничего не говорит. Молчит. Орденов полная грудь, и хоть бы слово про войну, про фронт, про свое ранение.
– Так что ты на солнышко не греши, – веселился Анатолий. – Рассказывай лучше, что видишь.
Алексей присел на лошадку, начал свою речь, похожую на причитания тети Груни:
– Воробей в луже купается, перышки распустил, тополь малиновые сережки развесил, трава зеленая, – и споткнулся, точно ударили его.
Да что там ударили – стукнули, да и все, простое дело, – тут не ударили, тут нож всадили. В спину! По самую рукоятку.
– Трава зеленая, это точно, это я и без тебя знаю, – толкал в бок Анатолий, – ты расскажи, какая она зеленая? Чего увидел?
Чего увидел? Траву зеленую увидел, а на ней стоит Зинаида и пальчиком его манит, а за Зинаидой тетя Груня улыбается.
Приехала! Улыбается! Пальчиком манит! Но не это удар в спину.
Другое. Никак Пряхин глаз от Зинаиды отвести не может, от живота ее. Явилась в срамном виде, на сносях. К нему явилась.
Ему дыхания не хватало, ловил ртом воздух, наглотаться не мог. Ну есть ли подлости людской предел? Нагулялась! А теперь заявилась! И пальчиком еще манит!
Сам не понял Алексей, как заскулил он. Не плач это был, не смех, а именно что поскуливания загнанной в угол собаки.
Анатолий его за плечо схватил:
– Что ты? Что с тобой?
Пряхин взглянул мельком на гармониста. Счастливый человек – глаз нет. Не видеть бы и ему собственного своего унижения, оскорбления, измывательства над собой.
– Ничего, – через силу ответил Анатолию. Не говорит гармонист ему о себе, жалеет, видно, раз не говорит, не считает нужным распространяться о том, что было, так вот и он помолчит о том, что есть. Повторил уверенней: – Ничего.
Остыл взгляд Алексея, сделался стеклянный. Смотрит он на Зинаиду и будто не видит ее. Будто не видит тетю Груню. Точно вымерзла его душа. Минуту назад он улыбался блаженно, да уж, видно, так устроена эта жизнь. Из огня да в полымя. Пришла беда, отворяй ворота. И нет – верно он думал! – нет любви между мужчиной и женщиной – между мужчиной и женщиной одна гадость, одна грязь, – есть только любовь чужих людей, единственное и высшее. Все прочее – бред, выдумки, прах, от которого боль непереносимая, слезы измен и унижений, обида и ненависть…
Молча, неотрывным, мертвым, пустым взором глядел он на зеленую, нежную траву, которую мяли, топтали ботинки Зинаиды.
Ушла. Исчезла вместе с тетей Груней, сердобольной до несправедливости. Сгинула, ранив навсегда своим видом Алексея.
– А все же, – сказал бодрым своим голосом Анатолий, – сводил бы меня в кино, братишка! На «Максима». Сколько прошусь. Говорят, идет.
– Пойдем, – согласился Алексей не своим голосом. Но Анатолий словно не заметил. Запел тихонько:
– Крутится-вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть! Брось! Не горюй! Все образуется! Солнышку сверху видней!
Ох, черт побери! Первый раз захотелось Пряхину послать Анатолия по дальнему адресу. Ну ж разве не понять? Есть моменты, когда шутка колом в горле встает. Помолчать лучше. Или напиться.
Читать дальше