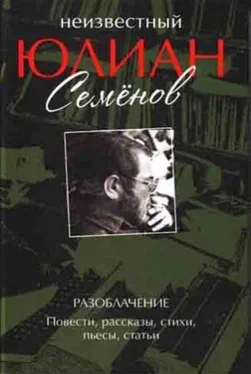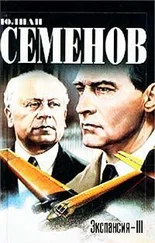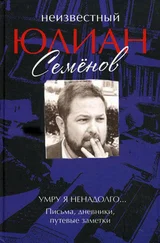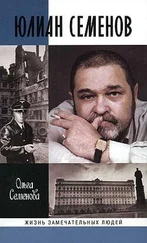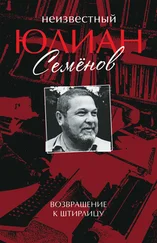И вот Клаудиа, «городская партизанка», моя любимая, нежность моя и душа, сошлась — в этих жутких условиях ежеминутного предсмертья — с кем-то из моих товарищей, таким же партизаном, как и я... Можно ли клеймить ее позором? Вправе ли кто обвинить ее? И как мне не простить ее? Если бы тот, с кем она сошлась, был каким подонком, слизняком, прощелыгой, тогда другое дело, но ведь это у нее случилось с таким же, как я, с товарищем, братом по борьбе... Может быть, он погиб, поэтому она и решила вернуться ко мне? Нет, она бы так и написала...
Все смешалось у меня в голове... Я должен был принять решение, я не мог не ответить Клаудии, но я ощущал, как во мне глухо и темно поднималась ревность, рождался червь-древоточец, зуб, злоба, во мне бушевали злые духи — косматые беззубые старухи с пропитыми голосами, перед глазами то и дело возникали видения того, что она делала с тем, другим...
Помнишь, я как-то говорил, что человек в горах многое теряет? Отваливаются целые пласты былых представлений о жизни, ненависти, любви, нежности, ты меняешься, становясь другим, то есть настоящим, каким и должен быть. По прошествии долгих лет в горах и городском подполье ты расстаешься и с воспоминаниями; это ведь в человеке самое личное, свое — в твои воспоминания не может ворваться полиция, их не усечет детектор лжи, это великое недосягаемое — воспоминания. Получив письмо Клаудии, я понял, что случилось непоправимое: воспоминания вернулись ко мне, в настоящем утвердилось прошлое. Главное свойство мозга — память, ее выборочность; сейчас самой болевой точкой моего мозга сделалась любовь к Клаудии, а в таинственной глубине этой болевой точки я всегда хранил глаза Клаудии. У нее были совершенно особенные глаза... Когда мы познакомились, я сразу же полюбил ее всю — ее прекрасные волосы, манеру держаться, ее очки с диоптрией, очень красивые, большие очки, которые так ей шли... Однако солнце постоянно бликовало в стеклах очков, и я не сразу смог понять ее глаза... Впервые я по-настоящему рассмотрел ее глаза, когда мы остались вдвоем и она сняла очки... Я понял ее глаза, когда мы оказались одни на этом свете, близко, вместе, и ее глаза были широко открыты, а на лице таилась странная, отрешенная улыбка...
Ее глаза были кофейного цвета; кофейные зерна, кожа вроде красного дерева, а может, меда — когда как; нос у нее был чуть длиннее, чем следовало бы, какой-то арабский... Медные волосы, медная кожа, кофейные глаза, правда, красиво? Чем дольше я присматривался к ее глазам, тем больше открывал их для себя. Особенно интересны были зрачки: симметричность линий и каких-то таинственных, глубинных рисунков делала их притягивающими, необыкновенными... Когда я любил Клаудиу, ее глаза смеялись, лицо замирало в улыбке, и тело, казалось мне, тоже смеется от счастья, хотя я не мог видеть этого, оттого что самое большое наслаждение доставляли ее глаза. В них было счастье ее тела, моего тела, наших двух тел вообще, счастье всего мира. В самый последний миг рождался, грохотал и низвергался солнечный дождь, который высвечивал ее лицо изнутри, она широко открывала подрагивающие кофейные глаза, и в ее зрачках я видел то, что она скрывала ото всех: феерический поток огней незнакомого ни ей, ни мне города, мерцание свечей на балу в королевском дворце, веселье в доме старенькой бабушки, грохочущий паводок после весенних дождей... Я не поэт, мне не хватает слов, чтобы описать то, что я видел в тот прекрасный, последний миг любви в ее глазах... Нет большего счастья для мужчины, чем чувствовать счастье женщины, в глазах которой бьется все многоцветье мира, все запахи его лугов в горах, все его мелодии, что слышатся в ночной сельве, когда ты один на один с миром и рождается предчувствие того, что сейчас твоему взору откроется асиенда, и там нет сомосовцев, и крестьяне, собравшись возле костра, поют свои великолепные песни, и ты испытываешь такую успокоенность, которую не может понять тот, кто не провел вместе с нами годы в этих бескрайних зеленых горах...
Когда мы были вместе с Клаудией, мне думалось, что нет ничего прекраснее, полней и законченнее, чем наша любовь; это как первые лучи солнца в мамином доме, как первое в твоей жизни мороженое, купленное отцом в день праздника, это вроде антильской сливы в меду, это песня Донны Саммерс, улыбка Аль Пачино, Тайная Вечеря...
Я говорю так сумбурно потому, что, когда наступал сладостный миг любви, в глазах Клаудии все смешивалось: и музыка, и самые фантастические цвета, которых нет на земле, радуга, купающаяся в песнях, тишина, которую слышат в космосе...
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу