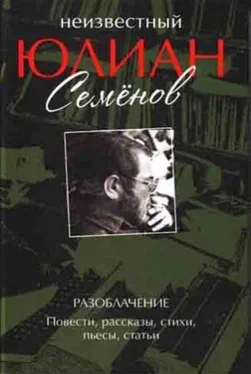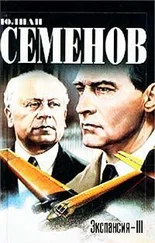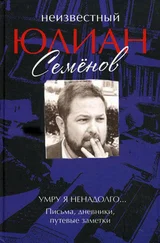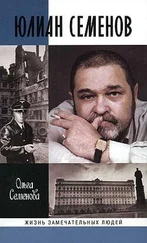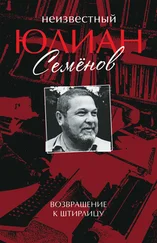И диссертант, отойдя к доске, начал крошить мелок, стремительно рисуя какую-то загадочную колонку цифр и обозначений.
«А я ведь думал именно об этом, когда представлял себе задником сцены университетскую доску», — подумал Писарев. Он теперь мог рассуждать спокойно, потому что перестал понимать диссертанта, мог обдумать все сказанное им и подивиться тому, как невероятно спрессовалось время и разум, сколь объемно знание, как важно быть подготовленным к нему; то, что сказал сейчас этот патлатый, измеряется двумя тысячами лет, пророчеством Евклида, сожжением Джордано Бруно, заточением Галилея, эмиграцией Эйнштейна. «А этот диссертант заколотил свои гвозди в течение пяти минут. И перешел к делу, то есть к новому. А мы, театралы, топчемся в старом, боимся пошевелиться, страшно раскачать лодку... Ну а другие не побоятся? Тогда — они первые, а мы — в хвосте? Так ведь нынешняя физика, как он сказал, изучает действие, вот в чем вся штука... У того, кто вырвался вперед, фора в действии. Каким оно может быть? Движение — это жизнь, а можно ли вообще разрешить эту проблему? Фаусту оказалось не по плечу, хоть и произнес: "Остановись, мгновенье, ты прекрасно!" А потом надо же делать Фауста! Именно так! И перемежать сцены Гёте выступлением этого патлатого физика, пусть порисует у меня на сцене свои формулы... Или уравнения... Бедный Димка, ему еще три года страдать со школьной физикой. Если бы в школе преподавали, как здесь, я бы стал отличником, потому что это интересно! Истинный отличник тот, кому интересно. Все другие — фикция, самообман, хорошая память, ловкость или крепкая задница! Во, теперь ясно!
... Ничто так не окружено тайной, как наше знание, наше оружие, наше счастье и горе — слово, произносимое со сцены. Пусть он объяснит такие слова, как предопределение или случай! Не напиши я письма, не прими меня Назаров — не было бы нового театра, а сколько людей пройдут через него, сколько родится нового качества знания, сколько гениев задумают свое в нашем зале, и это свое станет всеобщим, той точкой опоры, которая не даст перевернуть мир... Физика не сможет считать то, что мы чувствуем, погружаясь в таинственный смысл слов! Как просчитать слово "надежда"? Что это?! Кто вложил в это слово всю неизмеримую гамму чувств и мыслей, которая рождается сразу же, как только оно произнесено?! Судьба — это необходимость жизни... Стоп!.. Еще один спектакль... Он будет называться "Случай". А что?! По-моему, гениально! Ну и скромность у тебя, Писарев, не занимать! И начинаться он будет с вопроса: открыл бы Ньютон закон земного тяготения, не наблюдай он яблоню? Ощущал ли он тихое, спокойное счастье, слушая осенней ночью, как эти спелые яблоки глухо падали на землю или этот прекрасный, связующий с понятием вечности звук проходил мимо, не разрывая сердце ощущением безвозвратности мига?»
...Писарев успел договориться с академиками. Они обещали переговорить с патлатым, фамилия его была Берзинь, приехал из Риги.
...В управление позвонил из автомата, при выходе из института.
—Поздравляю, — сказала секретарь, — все подписано, у меня на столе, сегодня отправлю вам копию...
— Не надо, — ликующе попросил Писарев. — Я сейчас скажу кому-нибудь из моих товарищей, они к вам подъедут. Передайте, пожалуйста, мою самую низкую благодарность Кириллу Владимировичу за его столь доброе к нам отношение...
...Он не обратил внимания на лица друзей, которые встретили его в театре, не понял сразу той особой тишины, которая была на сцене, куда он чуть что не ворвался, как ветер.
— Где?! — воскликнул он. — Ириша, вслух!
Он понял все, когда прочитал текст приказа.
Сначала он услышал в себе жалостливое, чуть что не детское «за что?». Ему стало стыдно самого себя, он поднял глаза на товарищей; увидал слезы в глазах Ирочки; понял, сколь стар Лаптев и, видимо, тяжело болен; с удивлением отметил, что тетя Аня, внештатная уборщица, красит волосы.
Первым, неподвластным ему желанием было подняться и уйти. Так у него бывало на боксе, после тяжелого боя, особенно если его отправляли в нокаут. («Кстати, — как-то отрешенно подумал он, — это слово тоже было отменено одно время».)
Потом он вспомнил давешние слова секретарши о каком-то Грущине, который «хлопочет». Так это ж Васька Грущин, кто ж еще, сказал он себе.
И он понял, что ему нельзя сейчас уйти. Он должен — во имя его же друзей — сыграть сцену. Надо собраться, заставить себя почувствовать продольные мышцы спины, они должны стать его вторым хребтом, ничего, что они какие-то вялые, и вообще все внутри все похолодевшее и вялое...
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу