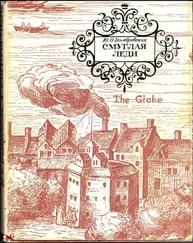— Так, молодец! — просипел бельгиец, переводя дыхание, и встал сначала на четвереньки, а потом на колени. — Я атеист, но мне Бог дороже — я хоть не оскорбляю Его.
Теолог вдруг сказал тихо и ласково:
— Друг мой, вот я знаю: дома вас дожидается большая и чистая любовь. Так вот: дай Бог вам никогда не соглашаться со мной и не увидеть, как ваше осмысленное чувство исчезнет и останется голый мышонок; дай вам Бог не узнать, какой это ужас — увидеть рождение мыши!
На другой день утром, на работе, ленинградец сказал теологу:
— Николай-то тю-тю, — и свистнул.
— Застрелили? — испугался теолог.
— Да, застрелили! — насмешливо ответил ленинградец.
Отошел и молча пилил до обеда, а во время перерыва оттянул теолога в сторону и сказал:
— Тот-то идиот в очках — ведь повел его к своей жене гадать на бобах о ее брате — брат в плену.
— Ну и?.. — спросил теолог.
— Ну и всё, — засмеялся ленинградец, — ни немца, ни Семенова; немец в карцере, а Николай ушел.
Подошел электрик из Гренобля (он сегодня стоял у пилы на месте маленького бельгийца) и остановился, слушая.
— Не секрет? Как все это вышло — вы ведь о побеге говорите? Они что, сговорились, что ли? Говорят, его ранили.
— А вот если привезут мертвым, так узнаем все, — мрачно усмехнулся ленинградец.
— Его не привезут мертвым, — ответил теолог, — у него браунинг.
— Вот как! — очень удивился электрик, а ленинградец только свистнул.
— Да, вот так, — коротко кивнул головой теолог. — Тише! Идут.
Подошел солдат, посмотрел и пошел обратно,
— Да, прежнего рвения уже нет, — вздохнул ленинградец. — Чувствуют, собаки, конец!
После работы, когда пленные расходились в разные стороны — иностранцы в одну колонну, советские в другую — они жили в разных лагерях, — ленинградец задержал теолога за руку.
— Вы молодчина — я видел, как вчера вы с ним что-то прятали в щепках, только не знал — что. Значит, он уж побывал тут?
— Значит, побывал! — ответил теолог. — Я ему еще явки передал. Так что если он доберется, то не пропадет.
— Нет, вы молодчага! — повторил ленинградец. — Каюсь, что не сразу вас понял, Бог-то Бог, да и сам будь не плох — так?
— Пожалуй, но вы и сейчас ничего не понимаете! Ладно! Не будем об этом говорить… У него же что? Жена актриса? И, кажется, еще известная?!
— Очень! Можете приобрести ее карточки в любом киоске. И, кажется, человек отличный. Что вы улыбнулись?
— Ничего. Надо идти. До завтра! — Теолог пошел и вернулся. — Вот кончится война, он приедет и увидит, что ждет его дома.
— Ну, она совсем не такая, — возмутился ленинградец, — да и он не такой.
— Ах, теперь вы это, наконец, поняли, какой он? Ну, хорошо! Нет, дорогой, и она такая, и он такой, и все вы такие, — улыбнулся теолог, ласково глядя на ленинградца. — Нет, это просто даже умилительно, как вы, светские люди, мало знаете о себе. Вот нас, монахов, вы третируете, а мы ведь в десять, нет, в сто раз прозорливее вас в ваших же делах! И знаете почему? Мы смотрим на жизнь с птичьего полета, и ее мелочами нас не обманешь, — мы их попросту не замечаем, а вы елозите по грязи и даже солнце видите только в луже. Настолько мусор в углах затмевает для вас все.
Наступило молчание. По делянке прошло несколько французов с пилами. Один, черный, курчавый, на редкость белозубый, весело крикнул по-русски: «Кончать, кончать!»
— Иду! — вздохнул теолог и тоже взялся за пилу. — Надо сдавать инструмент. До завтра!
— Так что ж, она его прогонит? — задержал его руку ленинградец.
— Ну, зачем прогонит? — пожал плечом теолог. — Вы же говорите: хорошая женщина? Нет, не прогонит — просто будет… как это называется, треугольник? Будет у них треугольник — вот и все!
— Никогда! Он повернется и уйдет.
— А может быть, еще застрелится или ее застрелит? — улыбнулся теолог. — Нет, дорогой, не застрелит, не застрелится и не уйдет — суета сильна! Он будет барахтаться в тине, пока не познает Бога.
— Значит, вы думаете, что ему тогда было бы до вашего Бога? — зло усмехнулся ленинградец.
— Думаю, что да, — мягко улыбнулся теолог, — он же тогда будет несчастен, а несчастному всегда до моего Бога.
А в это время Николай лежал под поваленным деревом верст за 30 от лагеря. Дерево вывернула буря, корни его вместе с мощным пластом выхваченной земли образовали пещерку, а Николай еще наломал орешника, загородил выход, и стало совсем незаметно — только бы лесник не набрел. Впрочем, тут уже начинался заповедник. Звенели и ныли комары. Сильно, как из погреба, тянуло землей и грибами, и, когда он ворочался, сор шумно сыпался на рубаху. Болело плечо. Он спустил ворот и посмотрел рану — пуля сорвала кусок кожи, и боль была такая, что он сразу же вспотел.
Читать дальше