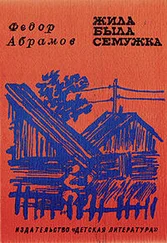Короче, сегодняшний старушатник работу свою завершил. Иные даже встали, взялись за свои увесистые сумки с покупками — из магазина шли. Но тут в избу нежданно-незванно влетела Олена-горло, и всё опять заходило колесом.
Олена Сергеевна с лихвой оправдывала свое прозвище. Голосище — труба иерихонская. Заорет в нижнем конце деревни, а слышно в верхнем. Ну а насчет характера лучше и не говорить: сроду ни с кем не уживалась. Можно сказать, век в колхозе жила единоличницей, потому что никто не хотел работать с ней рядом — всех отпугивал ее поганый язык.
Так вот, Олена-горло запастила — очень распространенное у нас словечко для обозначения крика на пределе — без всякого предисловия, прямо с порога:
— Чего сидите насухо? Люди-то охапками вино из магазеи тащат.
— Да кто такой ноне богатый?
— Кто! Известно кто — скотницы. Та соплюха-то — Полька Олексеевны — вся-то с рукавицу, двести шестьдесят рубликов огребла. За месяц!
— За месяц? — ахнули в один голос старухи.
— Да! За месяц! Стоит перед прилавком, выколупывает: «Я белого не люблю, мне бы шинпанского бутылки три…»
— Чего-чего? — переспросила туговатая на ухо Маша-репка.
— Шинпанского, говорит. Жижа такая, как стечь кобылья, только подслащена… В темных зеленых бутылках с серебряным горлышком…
— Четыре рубли с копейками по-нонешнему стоит… — авторитетно начала разъяснять Татьяна Марковна.
Но Олена и ее под себя подмяла — не дала досказать.
— Заместо квасу, говорит, пить буду. А то по нонешней жаре все горло пересохло…
— За четыре-то рубля заместо квасу?
— Дак ты какой дырой-то слушаешь? — заорала Олена на тихую Павлу. — Говорю, двести шестьдесят рубликов за месяц отхватила, дак чего ей какой-то там четверик.
— А сколько же с таких денег пензия-то ей будет? — полюбопытствовала, тряся головой, Фиклистовна.
— Да уж не с твое — не двенадцать рублей!
— У моей снохи сестра в совхозе агрономша, дак у них доярки ины по восемьдесят рублей получать будут, — сказала Татьяна Марковна.
— По восемьдесят?
В избе наступила гробовая тишина, даже тетка у печки перестала трещать лучиной — никак не разжигался самовар, потом вдруг хлопнули двери, загрохотали ворота — это Олена-горло выскочила на улицу. Так вот всегда: налетит, взбаламутит людей и вон.
Никогда не унывающая тетка Люба и на этот раз не изменила своему характеру.
— Ладно, давай, — начала она вразумлять старух, — с голоду не помираете. А денежных людей на том свете в ад — разве забыли «Страшный суд»? Бывало, у входа в монастырь висел…
Ее поддержала Анна:
— Верно, верно, мати. Всего вина не перепить, всех денег не прожить. Это кто, бабы, у нас говаривал? Ваня-грыжа, кабыть.
Но нет, и эта хитрость не удалась. Завсхлипывали, запричитали бабы — сперва тихонько, вполголоса, а потом все пуще, пуще, и вот уже сплошной вой и рев стоит в избе.
Я не сразу понял, из-за чего так убиваются мои землячки. Ведь не голодны же! А одеты, обуты — разве сравнишь с прежним? Так чего же им надо? Чего они хотят-требуют, протягивая ко мне свои старые, заскорузлые руки?
Справедливости. Прежде всего справедливости. Потому что разве не горько, не обидно это? Вкалывали, вкалывали всю жизнь, рвали из себя жилы — в колхозе, в лесу, на сплаве, сытыми бывали — по пальцам сосчитаешь года, а старость подошла — что отвалили им, во что оценили их нечеловеческий труд?
Да, да, да! На моих глазах проходила жизнь этих великомучениц, которых у нас иначе не называли как пережитками капитализма. Дескать, какие же это люди — темные, неграмотные, насквозь проросшие коростой собственничества! Вот погодите, новый человек вырастет — на него полюбуйтесь!
Новый человек вырастет — не сомневаюсь. Но пройдет ли по Русской земле еще раз такое бескорыстное, святое племя?
Вот сидит напротив меня с заплаканным страдальческим лицом старая Фиклистовна. Руки трясутся, голова трясется — отчего? Отчего она ночи напролет кричит и стонет, не дает покоя дочери?
Тридцать лет Фиклистовна обряжалась с коровами. Тридцать. С первого дня колхозной жизни, когда еще не было общих коровников. Утром встань ни свет ни заря, коров подои, воды наноси, навоз выгреби, потом лети домой как угорелая: свою корову обряжай, печь топи, семью корми. А с домом кое-как управилась — опять работа: за подкормкой ехать надо, а то еще и на сенокос да на силос беги. А за подкормкой раза два-три съездила — уж вечерняя дойка подошла. И опять колесом, опять сломя голову…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу