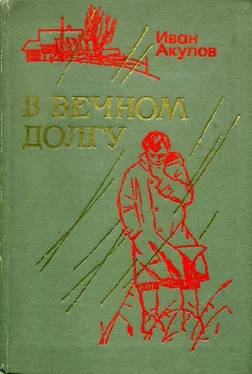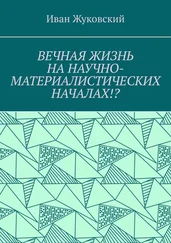Матери моей, крестьянке, посвящаю
Там, где река Кулим врубилась в меловой кряж и развалила его на две белые горбуши, цепочкой по берегу рассыпала свои дворики деревушка Обвалы. К реке она стоит задами и огородами. За перевозом, от самой воды, начинается государственный заказник, кондовый лес: сосна, ель, кедрач, береза, а дальше лиственный подлесок, ни к чему не годный, — рябина, боярка и гнилой осинник.
Окна всех домов глазеют на широкую луговину, уставленную купами тальника и черемушни, с мочажинами и непролазным дурманом малины. За нею поднимается увал, а от него идут обваловские угодья: выпасы, покосы, поля вперемежку с порубочными лесами.
У жителей Обвалов все под рукой, но люди почему-то не хотели тут жить. Многие перебирались в Дядлово, соседнее село, или снимались и уезжали в город. Приросла к родной деревушке, пожалуй, только одна Анна Глебовна, жившая в своей халупе-развалюхе у самого оврага. Куда было ехать Глебовне, если на всем белом свете у ней — ни одного родного человека! Муж Глебовны предвоенной весной погиб на пахоте: работал прицепщиком, оплошал как-то и попал под плуг. Единственный сын Никифор спустя три месяца ушел на войну, и — как говорится, ни вести, ни повести. Пересыльные пункты, тревоги, телячьи вагоны, голод и фронт так круто схватили обваловского парня, так ошеломили его, что он не сумел послать домой ни одного письма. Вот и осиротела Глебовна.
Зимой сорок первого в село Дядлово и окрестные деревни привезли, как называли местные жители, «выковырянных» из Орловской области. Голодных, измученных долгой дорогой людей рассовали по домам колхозников, не спрашивая на то согласия ни хозяев, ни гостей. В розвальнях, на промерзшей соломе, привезли постояльцев и Глебовне.
Глебовна колола дрова, когда во дворе появилась изможденная молодая женщина в больших кирзовых сапогах и легком пальто, ведя за руку обсопливевшего мальчишку лет одиннадцати, закутанного в материнскую шаль. Приняла их хозяйка холодно, неприветливо.
Каждый по-своему переживает горе. Глебовна мыкала его в самообмане и слепой надежде. Ей все казалось, что мужики ее ушли куда-то и вот-вот вернутся, поэтому в доме все сохранялось так, как было при муже и сыне. Одной просто было поддерживать прежний порядок.
Но вот в избе поселились чужие люди и невольно как бы оскорбили святую память о тех, кто жил тут. Им не было никакого дела до прошлого хозяйки. Они заняли кровать Никифора, и одежду его, висевшую в изголовье, Глебовна спрятала в сундук.
— Ничего, это ненадолго. Бог даст, возвернется Никеша.
Но слезы, горькие слезы тугим обручем стиснули грудь Глебовны, задавили ее сердце.
Постоялка, Ольга Мостовая, и сын ее Алешка были хорошо наслышаны о жестком и суровом характере уральцев. Боязно было думать о жизни в холодном краю, среди чужих людей. Но ее с сыном все-таки пустили под кровлю — и на том спасибо. Ничего Мостовая не просила у сердитой хозяйки, не докучала ей разговорами, а притаилась в отведенной комнатке, по-мышиному ждала чего-то. Ночью, когда засыпал Алешка, плакала над ним.
День на пятый или шестой после приезда Ольга позвала к себе Глебовну и, умоляюще глядя на нее запавшими глазами, заторопилась, слизывая с жарких губ сухмень:
— Вы, Анна Глебовна, добрый человек… Выслушайте… Анна Глебовна…
— Не тяни давай, — прервала ее хозяйка, — у меня самовар выкипает.
Ольга сидела, опершись плечом о спинку кровати. Потом вдруг легла, и из углов глаз ее по вискам покатились крупные слезы: мокрые дорожки после них потерянно блеснули в волосах.
— Умру я, видно, Глебовна. По женским смертно маюсь… Застудилась я.
— И что же теперь?
Мостовая разжала руку, и с узкой ладони ее брызнули летучей искоркой золотое кольцо и пара серег с подвесками.
— Возьмите, Анна Глебовна. Только пристройте мальчика в детский дом.
— Ах ты, окаянный народец. Да разве продам я свою совесть? Что ж ты раньше не сказала о своей хворости? Не хочу я иметь еще покойника в доме.
Глебовна выскочила в сени, с грохотом опрокинула там что-то и хлопнула наружной дверью. Ольга слышала, как по ту сторону стены, на улице проскрипели хрустким снегом быстрые хозяйкины шаги.
Читать дальше