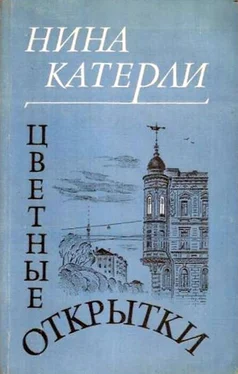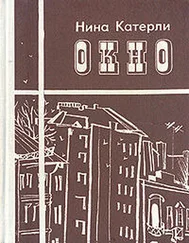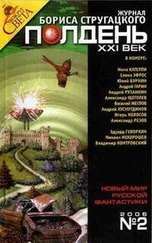— Ничего ты не знаешь, — тотчас перебил Володька. — Мы же их не понимаем. Вот ведь парадокс: почему-то всегда легче понять тех, кто старше, хотя такими, как они, мы никогда не были. А двадцатилетними, тринадцатилетними, трехгодовалыми, там, наоборот, были. А они для нас — темный лес. И мы их не понимаем.
Дорофеев поднял голову и с удивлением посмотрел на Володьку. Выражение лица у того было незнакомое, сосредоточенно-твердое, и говорил он не как всегда — без обычных своих заиканий и меканий, четко и внятно.
«Так он, наверно, со своими больными…» — подумал Дорофеев.
— Должно же было что-то там остаться, в памяти, верно? — продолжал Володька. — Ну… не внешнее, а чувства, мысли? Это ведь нам, петухам надутым, сейчас кажется, что у детей не бывает мыслей. Бывают! Еще какие. И у нас были, но мы их не помним. Не помним, хоть удавись! Точно кто резинкой стер. И нам искренне, ото всей души кажется: всегда мы были такими, как сейчас. Ну, конечно, поглупее, понаивнее, а в общем…
— Ну, это уж ты хватил — «не помним»! — возразил Дорофеев, пытаясь понять, случайно Алферов так ловко свернул на детей или знает что-то.
— Вот скажи: ты помнишь Витьку Голикова? — наседал Володька. — Он кончал, когда мы были в восьмом. Ага, помнишь. А Сергея Ряшина?.. Ясно. А Звонарева? Ну, а теперь назови хоть парочку из класса, который шел за нами?
— Погоди… Вроде… Ну, этот, футболист, как его?
— То-то! Не знаешь! Тут как в очереди: видишь только тех, кто перед тобой. Ими интересуешься, а им на тебя чихать. Все это, черт побери, естественно, человек — такая животная, хочет двигаться, меняться, и, чем моложе, тем больше хочет. Разве уж совсем старики…
— Не знаю, не пробовал.
— …Но в юности-то мы уж точно хотим быть как старшие, так? Младшие — глупые сопляки, мелочь пузатая, их же спать загоняют в восемь часов! А старших пускают в кино «до шестнадцати». Вон как! И с девчонками они — того… И вот уж мы не только от сопляков — от себя самих, вчерашних, как можем, открещиваемся и отплевываемся. Да что — от вчерашних! От сегодняшних утренних, или там — ночных. Почему? Потому, что желательно видеть себя не прыщавым гадким (утенком или, может, утконосом, а высоким, стройным этим… суперменом, которому сам черт не брат. А про гадкого утенка не думать, забыть. Начисто вытеснить его жалкий образ в подсознание! И ведь удается… если не очень задерживаться перед зеркалом и не слушать, какую чушь несут про тебя мать с бабкой., А чтоб супермен вспомнил, как в детсад ходил, как черной собаки во дворе боялся и какие испытывал эмоции, намочив однажды в гостях штаны? Да ни в жисть! Не было этот и быть не могло! Нет, потом, конечно, лет через тридцать, мы его, с мокрыми штанами, будем вспоминать, да еще как — с умилением, чуть не со слезами. Будем… да не вспомним. Главное не вспомним. Ничего, кроме штанов этих несчастных, которые так и не удалось изгнать из памяти. А вот что тогда пришлось пережить, вытерпеть, какой стыд и страх… Как было больно оттого, что взрослые так бестактны, жестоки… да наконец — просто глупы!.. Вот этого в памяти уже не осталось. И к счастью! Если все помнить, и жить нельзя. Кому ж это надо — хранить такие сокровища, как страх и стыд. Не хотим мы поганить, как в тринадцать лет подглядывали за девчонками! Не было ничего — ни гадких мыслей, с которыми не справиться, ни потных ладоней… Да, мы всегда были сегодняшними… или нет! — завтрашними! А эти загадочные сопляки — инопланетяне… Ужасно, ужасно обидно, что наши дети — другие, гораздо хуже нас. Увы! подумать только: бездельники, не желают трудиться, жить высокой наукой, у них, у паскудников, грязное воображение, а в головах — каша. Шалопаи и черствые эгоисты, порождение века. Неслыханно. Главное, никого-то им не жалко, и с нами они не откровенны, даже разговаривать не хотят. С кем? С нами! Которые столько знают полезного и интересного. И все их детские проблемы могут расщелкать, как орехи. Враз!
…Ему, конечно, что-то известно, потому и завел такой разговор… даже не разговор, монолог. Психотерапия! Но Дорофеев не перебивал, пусть. Тем более что от Генкиных речей… постой, а почему — «от Генкиных»? Откуда вдруг опять Генка, не первый раз уже за эти два дня в Ленинграде?..
— Дурак я все-таки, — сказал он, пристально глядя на Алферова. — Вообразил, будто у нас с Антоном во всем о'кей и контакт. И я его понимаю, и он от меня в полном восторге…
Секунду Володька молчал, склонив голову к плечу. И заговорил опять, почему-то понизив голос:
Читать дальше