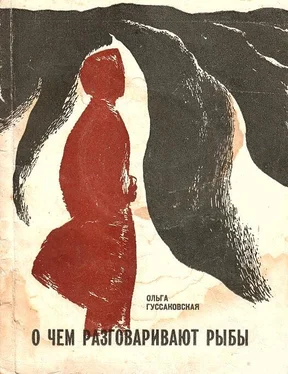— Нет, вы только подумайте, как можно оставлять ребенка такой женщине! Я бы таких, как эта Наталья, в двадцать четыре часа из поселка выселяла! Уж одного того довольно, что она в лагере сидела, а она еще и ведет себя так, что сказать нельзя! Воображаю, что ее Иринка видит дома! А йотом со школы спрашивают — почему плохо воспитывали!
Я никак не ожидала, что простой вопрос о работе в школе вызовет такую бурю. Видимо, для Настеньки во всем этом было что-то личное, только я не совсем понимала — что.
— Представляете, задала я ребятам изложение на свободную тему. Все написали — кто про лето, кто про лагерь, а эта… написала: «Хочу, чтобы Андрей Иванович стал моим папой, он про море все знает и с ним интересно…» А он — их сосед, и девушка у него есть. Мать, что ли, ее подучила? Просто ума не приложу, что тут можно сделать.
Настенька сердито, громко отхлебнула чай. Губы у нее были нежные. Острые ребячьи непримиримые локти.
Вокруг был все тот же медленно гаснущий летний день. Чуть вздрагивали поседевшие от пыли листья ольховника, бродил по клумбе белый цыпленок с чернильным пятном на спине. Жестяным голосом орал испорченный репродуктор на крыше клуба. И все-таки что-то изменилось. Исчезло безразличное однообразие незнакомого места. В который уж раз я почувствовала — рядом чужая беда.
Мимо нас уже дважды прошла молодая женщина.
— Кто это? — спросила я.
— Да она же — Наталья Смехова! Мать этой девочки! Вы ее не слушайте: она такой умеет прикинуться обиженной — не хочешь, так пожалеешь. Нет, я бы таких вон гнала, вот и все!
У Настеньки даже щеки разгорелись от гнева, и я подумала, что она хорошенькая. Даже очки не портят.
— А вы хорошенькая…
— Что? — Глаза у Настеньки изумленно раскрылись. — С вами серьезно говорят, а вы…
Настенька сердито встала и пошла к дому. Да и пора было. Солнце уже коснулось иззубренного, как старый нож, края сопки. Через несколько минут придет ночь. Летняя ночь без вечера. Мне не хотелось идти домой, и я осталась в садике. С моря потянулись белые полосы тумана, а с ними холод. Колыма не знает жарких ночей.
Солнце ушло, но темнота не приходила. Вместо нее по небу разлился мерцающий серебристый свет. Неба не стало. Было только это неверное, все подменяющее сияние белой ночи.
Дальние сопки придвинулись и стали близкими. Вода в узкой бухточке, где стояли сейнеры, потемнела, а суденышки, слившись, со своим отражением, стали огромными, как сказочные корабли.
Бледные цветы рододендронов на склоне сопки начали разгораться нежно-золотистым светом.
Ночь освободила звуки. Они стали самими собой. Ничто из принесенного человеком к ним не примешивалось. Даже далекий голос пароходной сирены показался голосом ночи…
Я встала и пошла вверх по выщербленной паводком улице. В погасших окнах домов отражалось сияние белой ночи. Словно в окна вставили небо. Дома спали. Только у одного, стоявшего чуть на отшибе домика в окне горел свет.
Я подошла ближе.
Землей возле домика завладела тайга. Видимо, никто тут не заботился об огороде. У крыльца тянулась вверх молоденькая лиственница, у завалинки на припеке разросся шиповник, а дальше между камней белели какие-то цветы — не то багульник, не то спирея.
Из заросли доносились голоса. Сначала я услышала женский — высокий и звонкий.
— Ну что ты ко мне ходишь? Перед людьми только стыдно. Ты — капитан сейнера, человек на примете, а я кто? Лагерная… Да и не верю я тебе. От Тоньки ко мне пришел, а от меня к кому пойдешь?
— Брось ты, Наташа. Опять за свое, — уговаривал мужской голос, низкий до того, что его было трудно расслышать, — Что у тебя за характер такой несчастный — вечно сама себе беду ворожишь, и меня и себя мучаешь неизвестно за что. Лагерная — ерунда. Больше ты сама на себя выдумала, чем дело было. И Тонькой зря попрекаешь. Думаешь, мне легко. Зря только растревожил девку. А от тебя не ушел бы, да кто тебя поймет, чего тебе нужно.
На несколько минут стало тихо, только птицы заливались в кустах да шелестело море. Потом снова заговорила женщина, но голос был другим — успокоенным, верящим:
— Не знаю, хне знаю я ничего. А вдруг да не получится у нас? Не одна ведь я, сам знаешь, за двоих решать надо…
— Ну и решай. Да ведь и решила уже, чего там. И тебе пора к дому, и Иринке твоей хватит в Натальевнах ходить. Отец ей нужен.
Женщина ответила не сразу. И снова было слышно, как шумит море.
А когда заговорила, в голосе ее прозвучала злость:
— Значит, хочешь, чтоб в Натальевнах девка моя не ходила, чтоб люди не корили за прошлое. А оно мое, понимаешь, худое, да мое!
Читать дальше