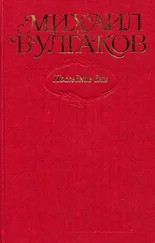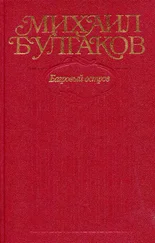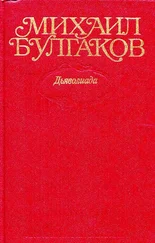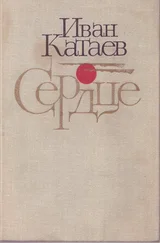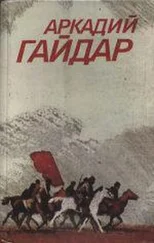— Как же, как же, давал…— скажет он и поглядит, но уже без иронии, а с черноватой тревогой в глазах. И врач выпишет ему йодистый калий, быть может, назначит другое лечение. Так же, быть может, заглянет, как и я, в справочник…
Привет вам, мой товарищ!
«…еще, дражайшая супруга, передайте низкий поклон дяде Сафрону Ивановичу. А кроме того, дорогая супруга, съездиите к нашему доктору, покажь ему себе, как я уже полгода больной дурной болью сифилем. А на побывке у Вас не открылся. Примите лечение.
Супруг ваш Ан. Буков ».
Молодая женщина зажала рот концом байкового платка, села на лавку и затряслась от плача. Завитки ее светлых волос, намокшие от растаявшего снега, выбились на лоб.
— Подлец он! А?! — выкрикнула она.
— Подлец,— твердо ответил я.
Затем настало самое трудное и мучительное. Нужно было успокоить ее. А как успокоить? Под гул голосов, нетерпеливо ждущих в приемной, мы долго шептались…
Где-то в глубине моей души, еще не притупившейся к человеческому страданию, я разыскал теплые слова. Прежде всего я постарался убить в ней страх. Говорил, что ничего еще ровно не известно и до исследования предаваться отчаянью нельзя. Да и после исследования ему не место: я рассказал о том, с каким успехом мы лечим эту дурную боль — сифилис.
— Подлец, подлец,— всхлипнула молодая женщина и давилась слезами.
— Подлец,— вторил я.
Так довольно долго мы называли бранными словами «дражайшего супруга», побывавшего дома и отбывшего в город Москву.
Наконец лицо женщины стало высыхать, остались лишь пятна, и тяжко набрякли веки над черными отчаянными глазами.
— Что я буду делать? Ведь у меня двое детей,— говорила она сухим измученным голосом.
— Погодите, погодите,— бормотал я,— видно будет, что делать.
Я позвал акушерку Пелагею Ивановну, втроем мы уединились в отдельной палате, где было гинекологическое кресло.
— Ах, прохвост, ах, прохвост,— сквозь зубы сипела Пелагея Ивановна. Женщина молчала, глаза ее были как две черные ямки, она всматривалась в окно — в сумерки.
Это был один из самых внимательных осмотров в моей жизни. Мы с Пелагеей Ивановной не оставили ни одной пяди тела. И нигде, и ничего подозрительного я не нашел.
— Знаете что,— сказал я, и мне страстно захотелось, чтобы надежды меня не обманули и дальше не появилась бы нигде грозная твердая первичная язва,— знаете что?.. Перестаньте волноваться! Есть надежда. Надежда. Правда, все еще может случиться, но сейчас у вас ничего нет.
— Нет? — сипло спросила женщина.— Нет? — Искры появились у нее в глазах, и розовая краска тронула скулы.— А вдруг сделается? А?..
— Я сам не пойму,— вполголоса сказал я Пелагее Ивановне,— судя по тому, что она рассказывала, должно у нее быть заражение, однако же ничего нет.
— Ничего нет,— как эхо, откликнулась Пелагея Ивановна.
Мы еще несколько минут шептались с женщиной о разных сроках, о разных интимных вещах, и женщина получила от меня наказ ездить в больницу.
Теперь я смотрел на женщину и видел, что это человек, перешибленный пополам. Надежда закралась в нее, потом тотчас умирала. Она еще раз всплакнула и ушла темной тенью. С тех пор меч повис над женщиной. Каждую субботу беззвучно появлялась в амбулатории у меня. Она очень осунулась, резче выступили скулы, глаза запали и окружились тенями. Сосредоточенная дума оттянула углы ее губ книзу. Она привычным жестом разматывала платок, затем мы уходили втроем в палату. Осматривали ее.
Первые три субботы прошли, и опять ничего не нашли мы на ней. Тогда она стала отходить понемногу. Живой блеск зарождался в глазах, лицо оживало, расправлялась стянутая маска. Наши шансы росли. Таяла опасность. На четвертую субботу я говорил уже уверенно. За моими плечами было около девяноста процентов за благополучный исход. Прошел с лихвой первый двадцатиоднодневный знаменитый срок. Остались дальние случаи, когда язва развивается с громадным запозданием. Прошли, наконец, и эти сроки, и однажды, отбросив в таз сияющее зеркало, последний раз ощупав железы, я сказал женщине:
— Вы вне всякой опасности. Больше не приезжайте. Это — счастливый случай.
— Ничего не будет? — спросила она незабываемым голосом.
— Ничего.
Не хватит у меня уменья описать ее лицо. Помню только, как она поклонилась низко в пояс и исчезла.
Впрочем, еще раз она появилась. В руках у нее был сверток — два фунта масла и два десятка яиц. И после страшного боя я ни масла, ни яиц не взял. И очень этим гордился, вследствие юности. Но впоследствии, когда мне приходилось голодать в революционные годы, не раз вспоминал лампу-молнию, черные глаза и золотой кусок масла с вдавлинами от пальцев, с проступившей на нем росой.
Читать дальше