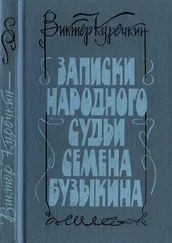Иван Алексеевич согласился, что кашлять было незачем, да и глупо, и заверил, что сейчас он покажет профессора так, как надо. Повторили сцену, и опять Иван Алексеевич сказал не так. Оказывается, надо было здороваться с директором не как с начальником, а как с товарищем по службе. Когда Отелков поздоровался как с другом, даже пожарник в медной каске прыснул в кулак. Режиссер бросил пиджак, засучил рукава и ринулся на Отелкова.
– Если ты мне сейчас не скажешь три этих проклятых слова, я тебя убью! – взревел Гостилицын.
Иван Алексеевич побледнел. Бедная фантазия его была парализована. Он превратился в безвольного манекена, еще способного выполнять все, что прикажут, но совершенно неспособного мало-мальски соображать.
Гостилицын приказал начать все снова. Иван Алексеевич вошел и ничего не сказал.
– Та-а-ак… – протянул режиссер, словно в этом слове было не одно, а по крайней мере семь «а». И вдруг неожиданно встал перед ним на колени: – Умоляю, всего только три слова! Неужели это так трудно?!
Иван Алексеевич попросил дать ему успокоиться. Пока он приводил в порядок свои нервы, Гостилицын всех убеждал, что сейчас Отелков обязательно скажет «здравствуйте, товарищ директор», и скажет так, как еще никто и никогда не говорил.
Кончился перекур. Опять вспыхнул юпитер. Иван Алексеевич собрал всю свою волю, открыл дверь и каким-то неестественным голосом выдавил: «Здрасте» – и,, запнулся.
– Здрасте… – передразнил его Гостилицын и добавил такое словечко, что все смущенно заулыбались, а пожарник заржал как жеребец.
Гостилицын удивленно посмотрел на него и спросил:
– С чего это тебе так весело?
– Смешно! – осклабился пожарник. – Видный такой мужчина, артист, а не может поздоровкаться.
– А ты можешь?
– А чего ж, могу, – широко и глупо заулыбался пожарник.
Гостилицын схватил его за руку:
– Выручи, голубчик, покажи.
Пожарник не ожидал такого поворота и забормотал, что он не артист, а всего лишь необразованный пожарник, и хоть режь его на части, а показываться не будет. Тогда Гостилицын, водя перед его носом пальцем, внушительно предупредил:
– Запомни, милейший! Если ты еще хоть раз сунешь нос не в свое дело, берегись! Не только голова твоя будет сидеть в этой дурацкой каске, всего туда загоню – с ногами и лестницей…
Пожарник поспешил убраться в свой темный угол, а Гостилицын ни с того ни с сего набросился на автора, который с удивлением и страхом наблюдал, как делаются кинофильмы:
– Видишь, написал какой диалог! Даже такой талантливый актер не может осилить! – Режиссер схватил себя за волосы: – Какой же я дурак, что связался с ультрасовременной темой! Снимал бы Гамлетов с Макбетами!
Постонав, посетовав на свою печальную судьбу, Гостилицын грустно посмотрел на Отелкова:
– Что же мы будем делать-то, Иван Алексеевич? Может, эту сцену вымараем? Согласен? Я тоже бы не прочь, да боюсь, что автор не позволит.
Ничего другого не оставалось, как применить наивернейший и простейший способ режиссерского показа. Что Гостилицын и сделал. Он вошел и сказал: «Здравствуйте, товарищ директор». Фраза прозвучала естественно и просто. Отелков старался вложить в нее и значимость, и смысл. Режиссер же не придал ей никакого значения и произнес фразу как бы между прочим. И в этом-то заключался весь секрет. И всем стало ясно, что профессор пришел к директору не с целью поприветствовать, а по какому-то важному делу.
Иван Алексеевич закрыл руками лицо. Стыд жег ему уши. От обиды и злости не осталось и следа. «Какая же я бездарь и ничтожество! – думал он. – Надо сейчас же отказаться от роли». И он наверняка бы отказался, но в эту минуту Гостилицын спросил:
– Понял, как надо?
Иван Алексеевич машинально кивнул головой.
– Повторим, – приказал режиссер и подал команду: – Мотор!
Иван Алексеевич повторил, и, кажется, неплохо. По крайней мере Гостилицын сказал:
– Ладно, сойдет!
На этом и закончился первый съемочный день.
Став артистом, Урод не заважничал. Его теперешнее положение и то внимание, которое ему оказывали, другой собаке наверняка свернули бы мозги набекрень. Однако порода, незаурядный ум удерживали боксера от дешевого зазнайства и легкомысленных поступков, на которые так падки молодые артисты. Кроме того, каким-то собачьим чутьем Урод понял, что он не какойнибудь рядовой пес, а исключительный, одаренный, и поэтому держал себя, как положено большим талантам, – скромно и просто.
О необыкновенных способностях Урода теперь говорили все, начиная с Серафимы А-нисимовны, самого Отелкова и кончая главным богом на студии режиссером Гостилицыным. Этот высоченный бог с огромными волосатыми руками внушал Уроду и страх, и уважение. И он старался изо всех сил угождать ему.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу