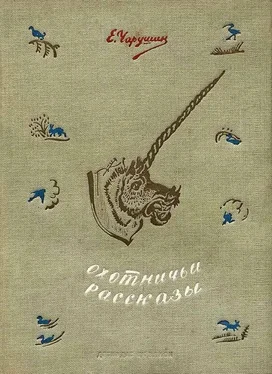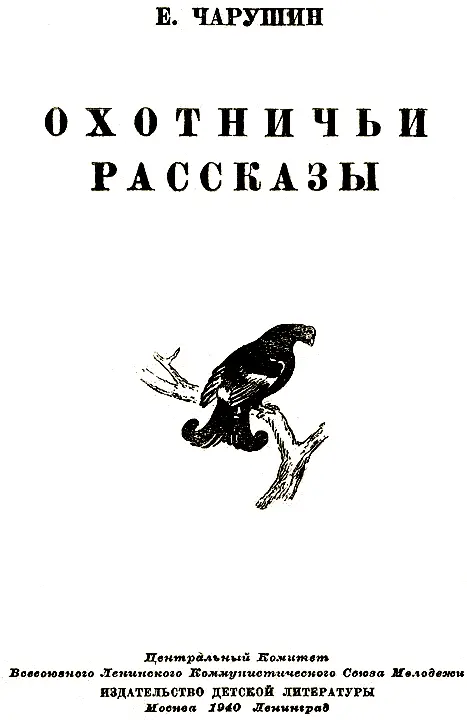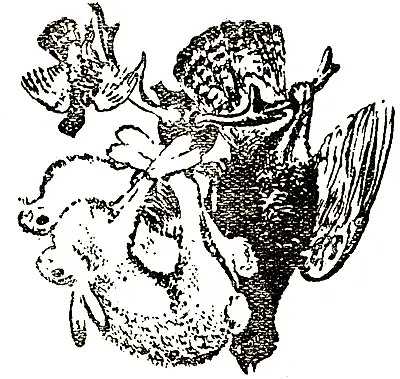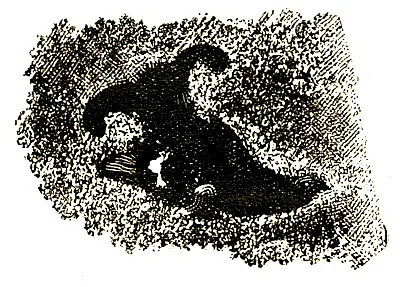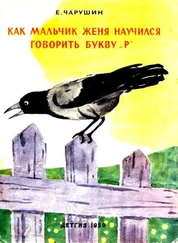Евгений Иванович Чарушин
ОХОТНИЧЬИ РАССКАЗЫ

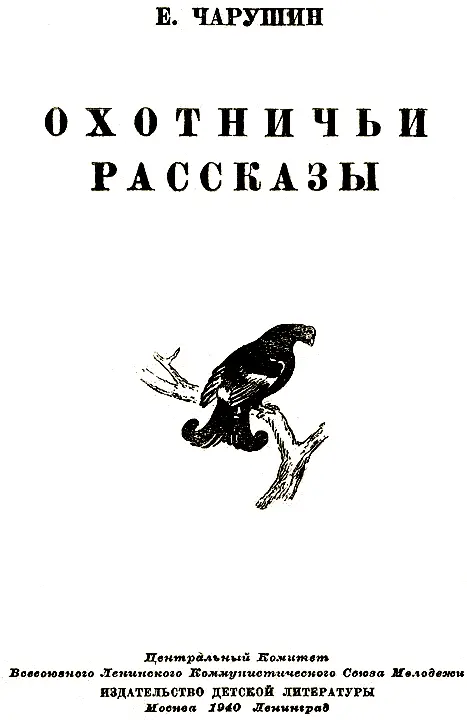
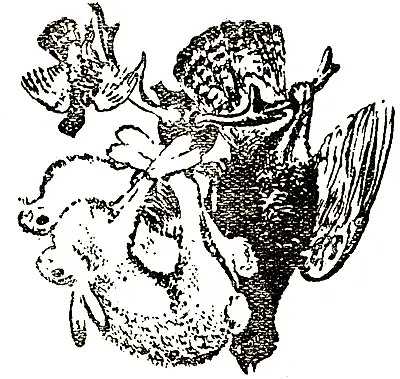
ПЕРВЫЙ ТЕТЕРЕВ
Рисунки автора
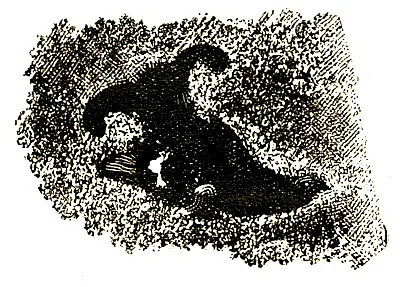
Говорят, индейцы носят кожаные мешочки — вроде кисета. В этих мешочках лежит какая-нибудь ягода, смола, мускус, кусочек коры. Все это положено на память, чтобы потом по запаху вспомнить то, что было.
И у меня часто бывает так: понюхаешь что-нибудь и вдруг ясно вспомнишь, что давным-давно было. Так хорошо вспомнишь, как будто это вот-вот сейчас случилось.
Скипидаром запахло. — И совсем я маленький мальчишка. И болен, а мама меня натирает салом со скипидаром, потом тепло кутает — наглухо.
Пролита на лестнице карболка. — И вот тебе девятнадцатый год. Я еду в поезде. Шинели, песни, винтовки, и станции все в извести — тиф.
А закуришь махорку после папирос — и двенадцать лет мне. На охоту я потихоньку пошел. Сижу у костра и курю большущую самодельную трубку, будто заправский охотник. От огня на правой ноге сапог скоробился — попадет мне, сжег я сапог. У ближнего куста пляшут, толкутся комары-толкунцы. Поют тоненькими голосами. Спереди жарко, а спина мерзнет. И коростель кричит.
Вот этой весной шел я по городу. Дело было вечером. Темно. У тротуара справа и слева воркуют ручьи. Пахнет прелой, сырой землей. И вдруг мне так хорошо-хорошо вспомнилось, как я сидел в первый раз на тетерева.
* * *
Ночь. Я один на болоте в шалаше, из еловых веток. Сижу на корточках и ружье свое обнял. Ружье заряжено пулей на случай, если медведь придет. Он сейчас везде шатается. Корешки у травы копает, прошлогоднюю клюкву жрет. Всю зиму спал — отощал, — ого, какой злой да голодный.
У меня ружье берданка, длинная, неудобная, и всегда-то у этой кочерги вываливается затвор. Сидеть скучно, холодно, воздух такой сырой и плотный, что думаешь: вот ткнешь пальцем в темноту, и сразу закаплет, заморозит. И ничего кругом не видно, все черно. Не разберешь, где земля, где небо? И тихо-тихо в лесу, только лист прошлогодний намокнет на ветке — упадет, другой упадет, зашуршит. Точно подкрадывается кто-то.
Сидел я, сидел и совсем закостенел. Вылез из шалаша и стал плясать, согреваться. Не видно, как пляшу, а слышно — каблуки чавкают по болоту. Потом закурил, и стало как будто еще темнее, только в глазах маячит красное пятно, — значит, на огонь пересмотрел.
Покурил, залез обратно в шалаш, свернулся калачом, чтобы колени не зябли, сунул нос в воротник, для своего носа сделал вроде как теплую пещерку. Надышал туда тепла и заснул.
Проснулся я — еще темно, но темнота уж не черная, а какая-то серая, — значит, начинается утро.
Ох, и плохо просыпаться на холоду! Лежу и боюсь пошевелиться. Ведь чуть ты шевельнулся, и в каждую щелку и в каждую дырку одежды залезает сырой холод. И заломит тебя всего. Потерпишь, потерпишь, а потом не выдержишь, подымешься и начнешь ежиться.
Но что это? Слышу — жук летает. Летает в самом шалаше, у меня над головой — бззз-бззз-бззз-ээээ… Жук, а не разглядишь — темно еще.
Потом, я догадался! Да ведь это не жук. Какие сейчас жуки — в лесу снег лежит. Это бекас летает в небе. Бекас, барашек. Заберется высоко-высоко и камушком вниз! Короткий хвост у него растопыркой, как веер, и перышки в хвосте гудят. Не то жужжат, не то блеют.
А вот и журавли проснулись! Сначала один как-то нехотя заголосил, спросонья. Потом к нему другой пристал, потом третий, и разом вся большая стая запричитала, закричала.
А вот кто-то крыльями свистит! Взь. Взь. Взь… Кря, кря-закрякала кряква. Вот она ближе, ближе летит, вот совсем у моего шалаша! Просвистели крылья — и слышно, как она улетает, все тише крякает. Вот уж еле слышно, вот и совсем замолкла.
Журавли без перерыва голосят — курлычут.
Как-то сразу залаяли на болоте куропатки. Тявкают сдавленными голосами. Чётко, быстро.
Светлее стало. Видно, как туман зашевелился. Мне уж не холодно. Я выглядываю, высматриваю из шалаша.
И вдруг за бугром, на той стороне болота, где седая трава, чуфыкнул тетерев. Чуффф… Чуфффшыть…
А позади меня, за тем самым кустом, мимо которого я шел вчера, — чуфыкнул другой. Чуффшшшыть, чуффшшшшыть — зашипел он и прихлопнул тугим крылом.
Читать дальше