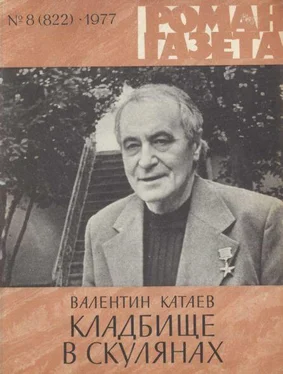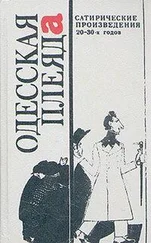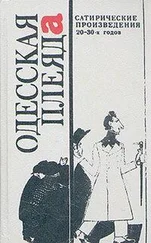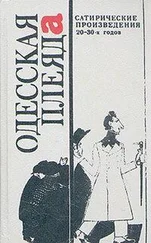Среди этого хаоса постоянно присутствовала военная треуголка отца времен Двенадцатого года, с плюмажем, она же легендарная шляпа Наполеона, явившаяся вдруг из глубины прошлого, каким-то образом олицетворяя разгром великой французской армии, и тяжелая бурка кавказской войны, давившая тело всеми складками своих горных перевалов и тесных дефиле, откуда с визгом вылетали штуцерные пули турецкого сорокатысячного десанта, высадившегося в своих алых фесках на Черноморском побережье Кавказа, и битва на реке Цхенис-Цхали, и поспешное отступление Омер-паши, и внезапные налеты мюридов Шамиля — всем этим были тягостные складки бурки, поминутно сползающей, как горные обвалы, с холодеющего тела. Это было также абстрактным воплощением воинской присяги, боевого крещения, производства в офицеры, любовью к родине и спасением Севастополя, обмененного по мирному договору на Карс.
Жажда, томившая его, являлась в виде узкого грузинского кувшина на плече горийской девушки в чадре, поднимающейся по гористой улице мимо миндальных и ореховых деревьев, мимо кустарника барбариса с чугунно-синими, багровыми листьями, мимо плетеных заборов с висящими на них связками кукурузных початков и стручков красного перца…
Затем этот глиняный кувшин, покрытый потом, оказывался на столе посередине сакли, рядом со стеклянной кружкой, в то время как невдалеке в духане слышалось как бы церковное пение низких мужских голосов, гортанных и печальных, а невыносимая жажда продолжалась бесконечно, и не было силы встать, подойти к холодному кувшину и напиться.
А затем раздавался скрип сухих деревянных ступенек, слышались чьи-то тяжелые, бесконечно длящиеся шаги, и в саклю входил как бы из непомерно далекого будущего человек в странной одежде, с головой, повязанной аджарским башлыком.
Тягостно и вместе с тем вкрадчиво-мягко ступая чувяками, он подходил к столу, долго рассматривал обстановку сакли: восточный ковер на деревянном ложе, скатерть на столе, сундук, покрытый тканой материей, помятый тульский самовар в углу на комоде рядом с круглым качающимся зеркальцем в траурночерной раме…
Наконец его взгляд останавливался на кувшине с холодной водой.
Его глаза светились неполным светом, как ущербный, умирающий месяц.
Он наливал из кувшина воду в стеклянную кружку, и струя воды зловеще краснела, превращаясь в вино. Как бы совершая некий таинственный ужасный обряд прощания со своим прошлым, человек не торопясь пил из кружки, и пока он пил, вино превращалось в кровь, и человек вытирал серповидные, мокрые от крови усы рукавом своей странной тужурки.
Это видение длилось мучительно долго и заканчивалось тем, что человек с окровавленными усами бесшумно выходил из сакли и его глаз скупо светился, как ущербный месяц, а сухие деревянные ступени стонали под тягостно-мягкими неслышными шагами, в то время как в духане продолжалось церковное пение, и дедушка понимал, что это панихида по унтер-офицеру Гольбергу, растоптанному каблуками майора Войткевича.
«К ноябрю я стал поправляться. Тут получилось известие о выходе дивизии в Ставропольскую губернию по Дарьяльскому ущелью через город Владикавказ. Слабость мешала мне выписаться из госпиталя, а тут еще уговоры товарища моего Добрянского не торопиться».
«В начале декабря, пропустив полк, мы с Добрянским наконец выписались и поехали в полк, который все еще шел да шел где-то впереди нас, совершая заданный марш в Ставропольскую губернию».
«Проехали мы Дарьяльское ущелье, потом и Душет, в тридцати верстах от Тифлиса. Город маленький, ничем не замечательный, кроме своего названия, мягкого и ласкового, — Душет, сочного, душистого, как груша дюшес. Его военный госпиталь содержится в чистоте и порядке. Здесь много больных и раненых из-под Александрополя, где были жаркие бои с турками».
«Поблизости госпиталя — сад, довольно большой и тенистый. В саду гуляют поправляющиеся раненые. У того забинтована голова, у того рука на перевязи, кто опирается на госпитальную палочку, кто прыгает на костыле, вытянув вперед замотанную ногу. И все они были рады, что война, слава богу, кончилась и есть надежда скоро попасть домой, в Россию».
Декабрь ничуть не был похож на зиму, а скорее на теплую, мягкую осень с ясным небом и грустным, невысоким, золотистым солнцем, рисующим на дорожках госпитального сада слабые тени еще не вполне пожелтевшей листвы разных деревьев южных пород.
«Мы с Добрянским очень подружились, как это часто бывает между молодыми офицерами-однолетками, пролежавшими рядом в одной палате военного госпиталя. Эта полковая дружба заменяла нам и семью, и сердечные привязанности, которых мы оба по молодости лет еще были лишены».
Читать дальше