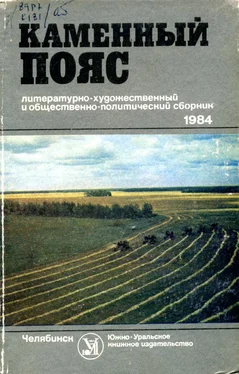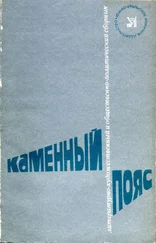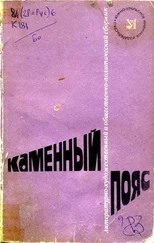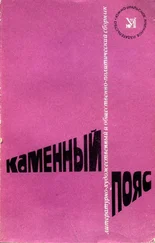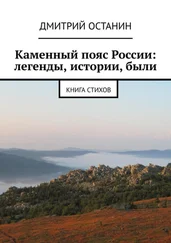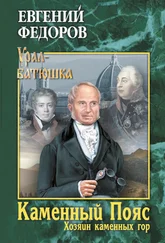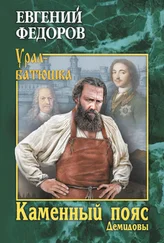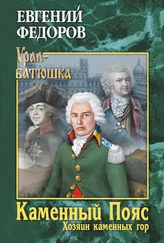И вынашивал новые планы:
7
Рассказ подошел к концу. К концу? Внимательный читатель вправе насторожиться. А портрет? Почему автор умалчивает о портрете?
О нем я скажу на этих, последних, страницах своего повествования о друге поэта — Дороховой.
Но прежде напомню строки из ее письма, отправленного 23 июня 1860 года из Петербурга и отысканного в фонде Фонвизиных.
«…На другой день он (Шевченко. — Л. Б. ) явился и говорит, что нет никакой надежды продать портрет; можешь вообразить мое отчаяние…»
«…Помолимся, моя родная, чтобы мой господь помог продать портрет, а то просто мочи нет как тяжело…»
Дополнительных на сей счет документальных сведений найти не удалось.
А вот сопоставление нового с известным к определенным выводам привело.
Итак — главное:
а) Шевченко после отъезда своего из Нижнего поддерживал дружеские связи с Дороховой и ее близкими;
б) они общались и тогда, когда он жил в Петербурге: обменивались живыми приветами, вели переписку;
в) поэт заблаговременно знал о предстоящей свадьбе воспитанницы Марии Александровны, дочери умершего к тому времени декабриста Пущина;
г) Тарас Григорьевич непосредственно участвовал в подготовке этого торжественного для Аннушки-Нины и для ее приемной матери акта;
д) портрет, о котором в том письме идет речь, был его материальнымвкладом в проведение предстоящего торжества, и на этот вкладДорохова рассчитывала.
Портрет…
В Нижнем Новгороде, еще в первые дни их знакомства, Шевченко рисовал Марию Александровну и Нину и портреты их закончил (запись от 4 ноября 1857 года — лучшее тому подтверждение). Ныне эти произведения неизвестны; работы никогда не репродуцировались.
Но писала Дорохова не об этих портретах или одном из двух. Наверняка не о них: продажа их могла дать слишком небольшую сумму, чтобы, огорченная неудачей, она испытала «отчаяние». Только изображение значительного, знаменитого лица, к тому же выполненное фундаментально (например, в масле), давало основание рассчитывать на покупателя «солидного», что в данном случае и требовалось. (Уж если «последней надеждой» являлся Строганов, то речь шла и впрямь не о случайном покупателе, а о человеке богатом, щедром.)
Что за портрет?..
Если нижегородские — Дороховой и Нины — исключаются (а доводы свои я полагаю убедительными), то разговор может идти об одном из произведений портретного жанра, созданном Шевченко уже в Петербурге.
Портреты «заказные» во внимание приняты быть не могут — их оплачивали и получали те, кого художник писал; распоряжаться ими он волен не был.
О портретах лиц известных, почитаемых, даже высокопоставленных, которые заинтересовали бы «крупных» покупателей, говорить не приходится, поскольку они учтены с завидной полнотой.
Значит… автопортрет?
На академической художественной выставке 1860 года экспонировалось несколько его работ. Василий Федорович Тимм, художник и издатель, писал:
«Известный малороссийский поэт Т. Г. Шевченко выставил… свой собственный портрет, написанный масляными красками. Мы слышали, что художник предназначил этот портрет для розыгрыша в лотерею, сбор с которой он определил на издание дешевой малороссийской азбуки. От всей души желаем, чтобы этот слух оказался справедливым и чтобы предприятие Т. Г. Шевченко сопровождалось полным успехом» [7] «Русский художественный листок», издаваемый Тиммом, СПб, 1860, № 36. — Художественная летопись, стр. 152.
.
Выставленный автопортрет был тут же, по совету Ф. П. Толстого, куплен великой княгиней Еленой Павловной. Сохранилось уведомление:
«Господин Шевченко приглашается пожаловать в канцелярию государыни великой княгини Елены Павловны в Михайловском дворце в пятницу 25 сего ноября от 11 до 2-х часов для получения денег, следующих за купленный ее императорским высочествам портрет.
23 ноября 1860 года».
Портрет был оценен в двести рублей. Невысокая плата за популярность, которую именитая покупательница надеялась таким путем снискать…
Но для целей, о которых писал Тимм, предназначался не этот, купленный великой княгиней.
Для лотереи впоследствии Шевченко сделал авторскую копию; она стала одной из последних его работ. Счастливый билет достался архитектору А. И. Резанову, который подарил свой выигрыш Василию Матвеевичу Лазаревскому — представителю семьи давних и искренних друзей поэта. Вырученные деньги — тоже двести — на этот раз пошли на издание, распространение «Азбуки».
Читать дальше