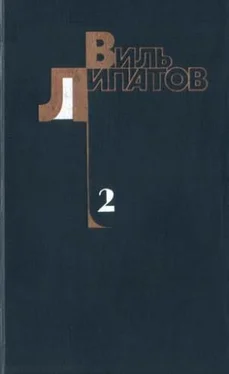– Я прогульнусь, – сказала за спиной Гранька.
Когда подружка ушла, Рая приблизилась к Анатолию, осторожно положив руки на его плечи, приникла головой к пахнущей дымом груди.
– Чего же мы будем делать, Толенька? – по-бабьи обреченно вздохнув, спросила Рая. – Как дальше-то будем жить?
Он молчал так, как умеют молчать только сибиряки, жители таежного Нарыма, – тяжело, с опростившимся лицом, с пустоватыми глазами. И молчал он долго, и дыхание у него сделалось ровным, и грудь затвердела выпуклыми мускулами. Потрескивал сырыми хвоинками дымокур, позванивал на дворе уздечкой Тренчик, на скривленном потолке стенали бревна.
– Мне пулю в лоб себе послать надо, – так тихо, что могла услышать только Рая, сказал Анатолий. – Все поглядаю на централку… Все поглядаю… До того предела дошел, что патроны с жаканами в озерке утопил…
В горле у Анатолия что-то клокотало.
– Мы друг дружку сгубим, – прежним голосом продолжал он. – Ты в инженерши не выйдешь, а я отца-матери лишуся… Обои отцы против нас! Мой опасатся, что мать ране времени в могилу сойдет, а Петра Артемич тебя хочет в инженерши вывести… Так что погинем мы друг от дружки… А я не хочу, чтобы тебе плохо было, Раюха… Ты мне любая!
Понимая, что надо снять руки с плеч Анатолия, Рая однако, не могла сделать ни одного движения, а все сжималась да сжималась в плечах.
– Мне радости не будет, если ты от домашности в старуху сгорбатишься, – говорил он еще тише, – я себя за это всю жизнь топтать буду…
Рая наконец отклонилась от его твердой груди, беззвучно шевеля губами, выбралась из дома, оставив Анатолия в той же позе, в какой она его обнимала. В последний раз мелькнуло перед глазами искривленное замкнутое пространство, в лицо пахнуло сладким, потом прикоснулся к щекам тусклый луч, так как солнце все-таки пробило в двух-трех местах тесность лиственничных ветвей, рассеявшись, казалось вечерним… Плакать не хотелось, было одно желание – навсегда запомнить дом, стену лиственниц, комариный гул, Тренчика, позванивающего уздечкой. Как и серое пространство заимки, все окрест казалось знакомым, обжитым, сто раз виденным и любимым, и вдруг возникло такое чувство, словно Рая не прощалась с этим дремучим миром, а, наоборот, наконец-то вернулась к нему после длинных и печальных блужданий по свету.
Она улыбнулась – от любви ко всему, что видела и слышала. Рая любила нежно и преданно мох под ногами, гномьи бороды лиственниц, дремучесть и тишину; она любила робкие голоса птиц, Граньку Оторви да брось, плутавшую по тайге, Анатолия Трифонова, оставленного в заимке; она любила и саму себя – несчастную, растерянную, искусанную комарами. Она была дома, дома, дома…
Пароходишко «Смелый», по предположениям улымчан, должен был прибежать близко к обеденному времени, до его прихода оставалось несколько часов; Рая Колотовкина, давно собравшая вещи и по-дорожному одетая, оставшееся до прихода «Смелого» время считала не коротким и не длинным – обыкновенные несколько часов из обыкновенных суток. Запеленав в юбку колени, она сидела на высоком крыльце, позевывала отчего-то, иногда, поддавшись дорожному настроению, щупала на талии матерчатый широкий пояс, надетый на голое тело, – в него были зашиты деньги, выданные дядей на всю зиму учения и проживания в городе. Пояс сдавливал ребра, мешал дышать, но она думала, что привыкнет. И дядя с тетей утверждали, что пояс пообомнется.
Наряженный в праздничный суконный костюм, дядя задумчиво разгуливал по двору, досадливо сморщившись, чесал в голове, но Рая не говорила, что кожаный портсигар лежит за наличником сенного окна. Молчание Раи не значило, что она сердита на дядю, что хочет ему зла. Рая была никакой – не сердилась и не радовалась, не любила и не ненавидела, не испытывала страданий, но и не была счастливой. Молчаливой ее тоже назвать было нельзя, так как она на все обращенные к ней слова отвечала охотно, да и сама могла вести деловой разговор – о том, где чемодан, почему не положена серая юбка, кто переварил курицу, почему нет ключей от чемодана…
День был не солнечный, но и не пасмурный, как раз такой, какого ожидали к приходу «Смелого» деревенские старики, – висела в небе какая-то дымка, что-то сизоватое плавало над рекой, какая-то муть затемняла кедрачи. Тщательно подготовившийся к приходу «Смелого», Улым – вычистившийся и праздничный – переживал минуты затишья, казался пустым и от этого большим; улица бесконечно простиралась в обе стороны, тайга деревню не сдавливала, небо – не ограничивало.
Читать дальше