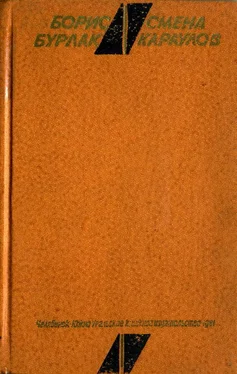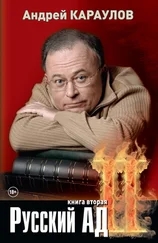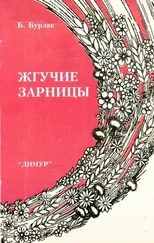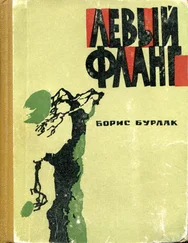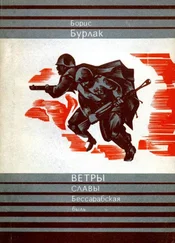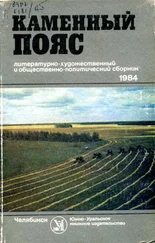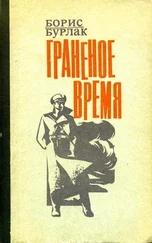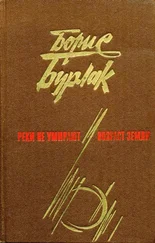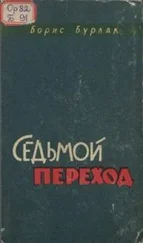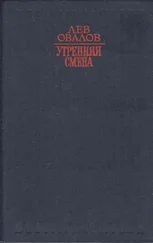— Помилуйте, Платон Ефремович, вы рановато записались в старики, — сказал Двориков, польщенный этим намеком.
— Контузия дает о себе знать.
— К сожалению, я не воевал. — Двориков виновато пожал плечами.
Они вернулись в трест под вечер. Платон был расстроен поездкой по участкам, тем более что на следующей неделе ему предстояло отчитываться на бюро горкома. Он закрылся в кабинете: надо было подумать, как вести дело дальше. По его расчетам выходило, что если к концу месяца с Волжского завода не поступит сборный железобетон для высотных домов, то и осенний план будет сорван. Нельзя без конца рассчитывать на соседей, нужен собственный прочный тыл. Всем будто бы это ясно, но из докладных записок не смонтируешь и карточного домика. Скорей бы закончить свои комбинаты, да, как на грех, рабочей силы недостает. Чтобы вырваться наконец из порочного круга, Платон решил все-таки законсервировать ряд начатых объектов до глубокой осени и перебросить бригады на завершение хотя бы одного домостроительного завода. (Семь бед — один ответ.) Тогда к Новому году удастся, может быть, сдать по крайней мере половину запланированного жилья. Без штурма, конечно, не обойдешься. Но это будет, наверное, последний штурм.
Собираясь поздно вечером домой, Платон наскоро полистал центральные газеты и обратил внимание на заметку из Баку — «Награда находит ветерана». Пробежал ее до середины, остановился, не поверил собственным глазам и, ошеломленный, принялся читать с начала. Это было невероятно, однако речь шла о радистке Порошиной… Он снова и снова перечитывал скупую, хроникальную заметку, мысленно выверяя каждый факт. Совпадали не только фамилия, имя, отчество, но и год, число, место боя, в котором участвовала радистка. Сомнений не оставалось: она жива, жива!.. И все послевоенное время отодвинулось разом куда-то в будущее, словно еще только предстояло осилить без малого треть века, и перед ним, Платоном, возникло дымное видение той ночи, когда он потерял на минном поле свою Улю-Улюшку. «Да не захворал ли я?» — подумал он и потянулся к ящику письменного стола, за дежурным лекарством. Но тут же отдернул руку, встал, включил радио погромче. Москва передавала Вторую Венгерскую рапсодию Листа. Платон узнал ее сразу же: сильные, звонкие всплески родниковой свежести заполнили всю комнату. Он слушал эту божественную музыку, отчетливо припоминая зимнюю слякотную Венгрию сорок пятого года…
Отступать в конце войны было тягостнее вдвое.
Саперный батальон Горского отходил сначала от Балатона на восток, потом от озера Веленце — на север. За неделю войска так перемешались, что были часы, когда майор Горский не знал, кому он будет подчинен к вечеру. Отдельный мотобатальон перебрасывали из одного стрелкового корпуса в другой — все зависело от того, где сильнее нажимали немецкие танки. На какое-то время он оказался даже на участке гвардейского кавкорпуса, чем донские казаки были явно довольны; но вскоре его опять вернули на подмогу матушке-пехоте. Находиться в противотанковом резерве куда хуже, чем быть на переднем крае: обязательно угодишь в такое пекло, что небо покажется с овчинку. Так оно и случилось с подвижным саперным батальоном, который имел задачу — ставить минные поля на т а н к о о п а с н ы х направлениях, иногда чуть ли не под носом у «королевских тигров» и «пантер».
В ночь на 25 января 5-я танковая дивизия СС «Викинг», 3-я танковая дивизия СС «Мертвая голова» и другие отборные соединения противника, наступающие северо-восточнее озера Веленце, неожиданно ударили на северо-запад, пытаясь, как видно, взять в клещи 4-ю гвардейскую армию, которая стояла насмерть на кратчайшем операционном направлении, ведущем к венгерской столице.
Горский получил приказ: заминировать всхолмленное поле в районе никому не известного доселе хутора Вереб. Платон ничего толком не мог знать, тем более он и не догадывался, что севернее хутора сосредоточен 23-й танковый корпус, готовый в случае успеха противника нанести ответный контрудар по немецкой стальной армаде. Платон видел одно: дальше отступать некуда, без того отчетливо доносится орудийная канонада из Будапешта, где весь январь идут уличные бои.
Та последняя военная зима на юге была малоснежной и гнилой. Нелегко саперу в такую ненастную погоду ставить мины, которые даже присыпать бывает нечем. Уже не раз немецкие танкисты, заметив утром мину, точно на грех вылупившуюся из-под снега, стороной огибали равнинные места, предпочитая им глинистые овраги. Помогали туманы, если к утру не дул южный адриатический ветер.
Читать дальше