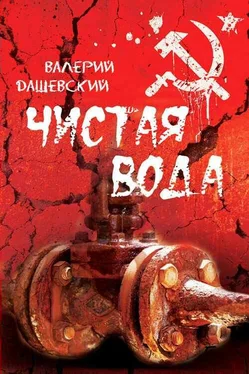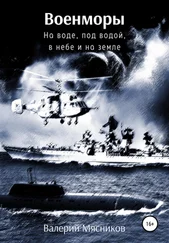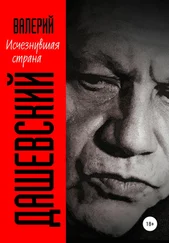Моя мать ни в чем не уступала Халилу Рамакаеву, но ему понадобился год, чтобы понять это и повести ее в ближайший загс. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мать перестала участвовать в выступлениях и улыбаться несущемуся на нее мотоциклу, потому что из-под ее кожанки стал виден живот. Не исключено, что сам Рамакаев все-таки додумался, что может допустить этот самый чепуховый просчет. Теперь он был обречен, по крайней мере, на год, проделывать в одиночестве свой головоломный головокружительный трюк. Теперь и она была обречена проводить время в моей компании, покуда вижу мир вверх ногами, как зрители — Халила Рамакаева в те головокружительные мгновения, ради которых раскошеливались. Вероятно, тогда она пристрастилась к чтению и поняла, что должна учиться. Но Халил Рамакаев не пожелал стать ей в этом достойным напарником. Три с половиной года ушло на выяснение этого обстоятельства; с каждым переездом, с каждой ночью, проведенной в гостиницах городских окраин, углублялась возникшая между ними отчужденность. Решительности моей матери, как видно, было не занимать. И однажды в погожее летнее утро она вышла из гостиницы со мною на руках, чтобы навсегда смешаться с городской толпой. Искал ли ее Халил Рамакаев? Обрел ли утешение в охах и ахах, в восторженных взвизгиваниях и громогласном одобрении мужчин? Полагаю, это перестало интересовать мою мать с тех пор, как она сделала открытие не только об их равенстве, но и о собственном, недосягаемом для него превосходстве.
Отринув прошлое вместе с Халилом Рамакаевым, мать нашла в себе силы окончить десятилетку и полный курс наук филологического факультета университета. На это ушло восемь лет. Пять из них мы прожили бок о бок с летчиком-испытателем Сергеем Гняздевым, в квартире, напоминавшей музей воздухоплавания, оборудованный коммунальными службами. Мой новый отец носил костюмы просторные, но сшитые по фигуре, был подчеркнуто аккуратен, властен и прямолинеен, имел обыкновение то и дело сверять ручные часы и не терпел, если с места на место перекладывали сами по себе ничего не значащие вещи, как мыльница или палочка для бритья. В такие минуты голос его звучал резко и жесткий взгляд серо-стальных глаз упирался в меня из-под кустистых бровей. На мать он смотрел иначе даже при людях — под его взглядом она опускала глаза, и щеки ее заливал румянец смущения. Не берусь судить, была ли она счастлива во втором браке. Я помню один из вечеров, когда мы с Гняздевым смотрели телевизор — большую роскошь по тем временам, предмет постоянной зависти соседей. Гняздев сидел рядом со мной в глубоком кресле, вытянув ноги в войлочных домашних туфлях, и улыбался своим мыслям. Мать читала книгу за столом, Гняздев смотрел на нее, улыбаясь, а улыбался он редко, я тоже посмотрел, — ей тогда было двадцать шесть, — и мне запомнилось, как она сидела, изящно склонив латунноволосую голову, и мягкий свет настольной лампы освещал ее профиль. Проснувшись ночью, я вышел на кухню напиться воды и застал ее плачущей. Она протянула руку и прижала меня к себе.
— Мама, тебя обидел папа Сережа? — спросил я ее.
— Тихо, — сказала она. — Тише, милый. — И приложила палец к губам.
— Скажи, почему папа Сережа кричит на нас? — спросил я тогда.
— Тише, милый, — попросила она, — не надо об этом спрашивать.
Я стоял, прижимаясь к ней, и думал, что сейчас заскрипит половица, он войдет на кухню, и жесткий взгляд серо-стальных глаз упрется в нас из-под кустистых бровей. Тем не менее, я огорчился, когда в один прекрасный день мы покинули Ростов. На этот раз нам не пришлось смешиваться с толпой и матери не нужно было нести меня на руках — я сам нес одну из наших сумок. Я, помнится, был сильно огорчен и раздосадован отъездом; к тому времени я обзавелся во дворе друзьями, я смотрел на стоявшую на буфете модель истребителя МиГ-17, как на свою собственность, и в школе я считался докой и непререкаемым авторитетом по части бочек, боевых разворотов и мертвых петель.
Мы перекочевали в Киев, где матери дали тему для диссертации и назначили руководителя. А я поспешно обзавелся новыми друзьями, готовыми слушать про мертвые петли, бочки и боевые развороты. Я, было, совсем вошел во вкус — как-никак, мы прожили в Киеве три года какой-то малости — когда мать защитила диссертацию и ей предложили преподавательскую работу и квартиру в городе, который впоследствии стал для меня родным. Теперь мне не пришлось нести сумку до вокзала, и, не торопясь, — на этот раз нам не от кого было уносить ноги, — мы уложили вещи. Я стоял, облокотившись о борт грузовика, и смотрел, как выносили из подъезда нашу мебель — да, кое-какой мебелью мы к тому времени уже обзавелись. И поезд повез нас на юго-восток через бескрайние, перемежавшиеся редкими перелесками поля.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу