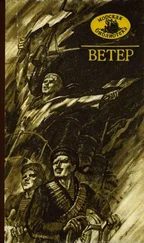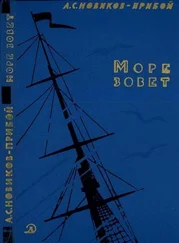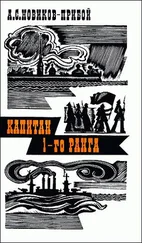— Молчи! — крикнул доктор, дергая себя за рыжий клок волос.
Он приказал квартирмейстеру положить ногу на ногу, ударил молоточком ниже колена и, увидев, что нога живо вспрыгнула, просиял от радости:
— Эге! Рефлексы повышены.
Повернул молоточек и ручкой провел несколько раз по обнаженному животу:
— Гм… кожные отсутствуют…
Доктор продолжал свои исследования, щекоча пятку, ударяя молоточком в разные части тела, дергая вверх стопу. Руководящая нить, ведущая к диагнозу, то ускользала, то опять попадала в сферу мысли врача, и по мере этого лицо его омрачалось или просветлялось.
— Ваше благородие, — всхлипнув, не унимался Дергачев, — обязательно надо перекличку… Кто живой, кто мертвый… как же?
— Встань! Закрой глаза! — командовал между тем доктор.
Дергачев встал, зажмурил глаза, но через минуту потерял равновесие.
— Ромберг положителен, — торжествующе заключил доктор, поправляя на носу пенсне.
— Ваше благородие, до смерти он помер или нет?
— Подожди. Отвечай только на вопросы. В семье у тебя не было умопомешательства?
Квартирмейстер молчал.
— Родители твои водку пьют?
— Только отец. Он здорово может хватить. А матери у меня совсем нет…
Из дальнейших расспросов выяснилось, что мать погибла в ранней молодости, упав в глубокий колодезь.
— Так, так. Но тут могло быть и самоубийство…
Доктор начал допытываться о всех родственниках.
— Ваше благородие, отпустите. Что вы меня мучаете?
— Стой! Спишь как?
— Я не сплю. Я все понимаю.
— Э, черт! — рассердился наконец доктор. — Уберите его! Все ясно…
Вечером командир получил письменный рапорт. Доктор подробно и обстоятельно доказывал, что квартирмейстер 2-й статьи Дергачев страдает болезнью мозга и галлюцинирует. А так как крейсер «Самоистребитель» шел все дальше от России, то командир, не сомневаясь в правдивости докторского заключения, положил следующую резолюцию:
«Старшему офицеру к сведению: если больному не будет легче, то в первом же порту списать его в госпиталь».
На второй день крейсер бросил якорь на рейде французского портового города.!
Часов в девять утра к Дергачеву, который находился под замком в лазарете, опять пришел врач.
В одно мгновение больной вскочил с кровати и стал в угол. За ночь он стал неузнаваем: лицо почернело, как чугун, вокруг глаз вздулась опухоль, и все тело дрожало, как у паралитика. Он безмолвно уставился на доктора жуткими, налившимися кровью глазами.
— Да, дело дрянь, — взглянув на него, заключил доктор и не стал даже его расспрашивать.
Снова о Дергачеве доложили командиру.
— Отправить во французскую больницу сейчас же.
Сказано — сделано. Не прошло и получаса, а паровой катер, попыхивая дымом, уже мчался к пристани. В корме сидел доктор, покуривая душистую гаванскую сигару и любуясь живописным видом города. А Дергачев, пасмурный, как ненастный день, находился в носовой части. Два матроса, назначенные в качестве сопровождающих, крепко держали его за руки.
Дергачев сначала как будто не понимал, что с ним делают, но на свежем воздухе ему стало лучше.
— Братцы! — взмолился он. — Руки-то хоть пустите. Ведь не убегу же я…
— Так приказано, — строго ответили ему.
— Куда же вы меня везете, а?
— Если рехнулся, так куда же больше, как не в желтый дом.
— Что вы, что вы. Ах ты, господи! Я как следует быть: все в порядке… Я вас обоих узнаю: ты вот — Гришка Пересунько, наш судовой санитар, а ты — Егор Саврасов, матрос второй статьи…
— Ладно, заправляй нам арапа, — отозвался санитар внушительно. — Его благородие, господин доктор, лучше тебя понимает. На то науки он проходил. И ежели признал, что нет здравости ума, тут уж, брат, не кобенься.
Другой же матрос, предполагая, что умалишенный так же опасен, как и всякая бешеная собака, на всякий случай пригрозил:
— Только ты смотри — не балуй. Это я насчет того, чтобы не кусаться. В случае чего всю храповину разнесу.
Дергачев сдвинул брови, бросил на матроса негодующий взгляд, но ничего не сказал. Он оглянулся назад. Родной корабль, на котором он прослужил почти четыре года, уходил в даль моря, таял в ней, а впереди шумно вырастал чуждый город, облитый знойным солнцем, но жутко холодный. И вдруг впервые будущее представилось ему с жестокой ясностью: чужие люди наденут на него длинную рубаху, прикуют его на цепь к кровати; и будет он, одинокий, всеми забытый, чахнуть вдали от родной стороны, быть может, долго, много лет, пока не придет конец. Беспредельная тоска потоком хлынула в грудь, крепко сжала сердце. Глаза налились слезами и часто заморгали…
Читать дальше