— За чем же дело стало?
— А нельзя. Должность не позволяет…
— Ну раз так — даю вам полное отпущение грехов, — тихо засмеялся Чугуев. — Вам нимб на голову еще не давит?
— Давит! У меня с детства так: только соберусь чего напозорить, тотчас будто голос внутри: стой, нельзя!.. И откуда это «нельзя» пошло? От матери, что ли? Она зверски строгих правил была. Молодой без мужа осталась и ради ребят — меня и сеструх — всю женскую жизнь в себе заглушила. А я в такую круговерть попал: за проклятую мою правильность меня всегда куда-то выбирали. Прямо с пионеров и началось. Выбирают, и все тут! Я ждал, ну как обойдет меня народное доверие, тут и развернусь на всю железку. Не получается — выбирают. А девки кругом с каждым годом все красивее. Нельзя!.. Попробовал охотой отвлечься. Так у меня на уток жадность хуже, чем на девок. Думаете, я шутил, когда обещался до срока начать? Нет. Это я сам себя подначивал, запрет снимал. Но не снял, дьявол меня побери! А корешков своих я сразу разгадал, когда Пыжик в обход утиной крепи пошел… Ну, а как все же считать, Алексей Борисыч…
— Побольше бы таких мучений! — от души сказал Чугуев.
— Тогда порядок… — пробормотал Обросов засыпающим голосом. Он выговорился и сразу потух.
А Чугуев еще долго вертелся с боку на бок. Он о многом передумал в эти бессонные часы: о том, как ему жить дальше… И еще он думал о том, как странно ощущать себя человеком, которого знают. Он словно вышел из собственных пределов и какой-то своей частью стал существовать вне себя, и это второе существование было радостно и тревожно. Он чувствовал ответственность перед новым своим обличьем и понимал, что должен предъявлять к себе иные, более жесткие требования. Смущала мысль: не поздно ли? Слишком краток срок, оставшийся впереди, чтобы на многое рассчитывать. Но кто вообще может знать, сколько ему осталось? Жить надо так, будто впереди вечность, конечно в смысле серьезности и ответственности, а не в смысле беспечного откладывания на будущее всех благих намерений.
И если исключить тот неуют, каким угнетает человека бессонница, то, ворочаясь на своем тощем тюфяке, Чугуев был счастлив. И его огорчило, смутило и обидело, почему так тяжел оказался наконец-то пришедший к нему сон. Началось с сердечных обмираний, когда казалось, что сердце обрывается и летит в пустоту, и он рывком подавался за ним следом, чтобы удержать его в грудной клетке. Он погрузился в кошмар мучительных сновидений. Он был в Африке, на зоостанции или в питомнике, где разводят крокодилов, черт его разберет. Куда ни глянь — всюду крокодилы: крошечные, похожие на сухую ветку, средних размеров, но не вызывающие опасений, и крупные, жутковатые гады. Сон строился на постепенном увеличении размеров крокодилов и страха перед ними. Работники питомника, почему-то смутно враждебные Чугуеву, ничуть не боялись крокодилов, но их защищенность не распространялась на него. Вначале он изящно и легко, наслаждаясь своей ловкостью, находчивостью, ускользал от крокодилов, но затем в нем проснулся страх. Ему удалось скрыться в лаборатории и запереть все двери и окна. Крокодилы пытались штурмовать тонкие стены, но без успеха. И тут он с ужасом обнаружил, что возникают они в самой лаборатории — из собственных чучел и трупов, заспиртованных в банках, из лабораторной утвари и мебели. Оказывается, в любом предмете таится крокодил. Стол, диван, скамья стряхивали с себя обманчивую оболочку и становились крокодилами. Он успел выскочить из лаборатории на задний двор, обнесенный глухой, высокой стеной. Двор был пуст, лишь посреди высилась громадная серая глыба засохшего цемента. И не страх, а смертную тоску испытал он, когда от глыбы стали отваливаться куски и освобожденная от бесформия масса предстала гигантским крокодилом. Гад передернул кожей, стряхнул серую пыль и двинулся на него.
Закричав, Чугуев проснулся. Он никогда не испытывал отвращения к крокодилам. Отвращение вызывали в нем гиены, крысы, жабы, но никак не крокодил, забавный персонаж детских сказок. Да и вообще этот сон был незаконен, на трезвую голову ему всегда снились добрые сны, иногда деловито продолжающие дневные заботы и впечатления, иногда погружающие материал действительности в поэтическую дымку и лишь изредка носящие образ фантастики, образ полете, — сны гордые и радостные. И вдруг такая пакость, да еще настолько ощутимо, что, проснувшись, он не мог стряхнуть видения омерзительных тяжелобрюхих тел и злобных щелок светящихся глаз. «Вот отчего нам ночь страшна!» — пробормотал он строчку мудрого однофамильца районного редактора. Да, ночь и впрямь сдергивает «ткань благодатную покрова», обволакивающую все скрытое в сиянии дня. Да так ли уж скрытое? А боль, пронизавшая его в лодке?.. Чепуха, то не боль конца, а расход на восстановление здоровья. Все чепуха… Все чепуха… чепуха… Чугуев спал…
Читать дальше
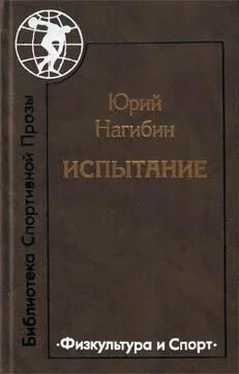








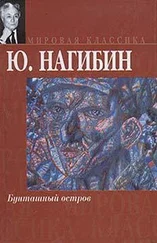


![Юрий Нагибин - Страницы жизни Трубникова [Повесть]](/books/400660/yurij-nagibin-stranicy-zhizni-trubnikova-povest-thumb.webp)