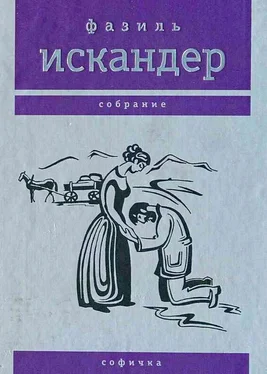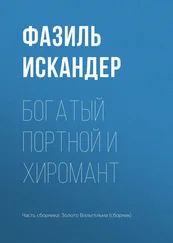А язык! Словарь филологов и шпаны, фарцовщиков и астраханских рыбаков, староверов и физиков, тюркизмы, украинизмы, с размаху вброшенные им в русскую речь, где они, мгновенно русея, свободно плавали, как в родном море!
Да, язык у него был богат, но он терпеть не мог выдуманные слова. Он считал Маяковского великим поэтом за его любовную лирику, но изображал преувеличенный ужас, когда речь заходила о его словотворчестве. Он считал это безумным кривляньем. Из всех словообразований Маяковского признавал только одно — «выжиревший»:
Как выжиревший лакей на засаленной кушетке.
— Здесь это слово уместно, — говорил он. — Оно хорошо передает длительность пребывания лакея на кушетке. Но с другой стороны, какой барин позволит лакею долго лежать на кушетке? Разве что Обломов.
Да, его богатый язык никогда не поворачивался против советской власти, но и никогда не пытался лизнуть ее.
Начальству было решительно непонятно, как с ним быть. В то же время он одинаково свободно общался с упертыми державниками и с непримиримыми диссидентами. Идея исторического величия России ему была не чужда, и державники ждали, когда он дозреет до мысли, что за это величие надо драться закатав рукава. Но он закатывать рукава не спешил, ибо под величием России подразумевал ее культуру.
Точно так же ошибались и диссиденты. Видя обилие примет западной жизни в его стихах, они считали, что он вскоре дозреет до западничества и станет диссидентом. Но и этого не случилось.
По поводу подозрений в нелояльности он написал шутливую эпиграмму, которую действительно нельзя было напечатать:
Подсолнух следит за солнцем.
Ромашка следит за подсолнухом.
Я слежу за ромашкой.
Цензура следит за мной.
Наконец рукопись его стихов в одном издательстве передали критику, известному — да что известному! — главнейшему расшифровщику антисоветского подтекста! Тот долго изучал стихи нашего поэта и наконец написал на них обширную рецензию, которую почему-то в редакцию прислал по почте. Этого с ним никогда не случалось. Обычно он расшифровки приносил сам, чтобы лично упиваться удивлением работников редакции своей безошибочной угадчивостью.
На этот раз работники издательства не успели удивиться его рецензии в виде письма, как вынуждены были поразиться ее содержанию.
Автор рецензии писал, что тщательный анализ стихов показал: антисоветский подтекст в них, безусловно, существует, но он так разросся, что отделился от текста и ведет автономное существование — по-видимому, там, где его хранит автор.
Пораженная редакция попыталась связаться с критиком по телефону, но услышала только истошный крик его жены, что мужа увезли в психбольницу.
— Что за стихи вы ему дали на рецензию! — визжала она. — Я по суду буду требовать уплаты штрафа за производственную травму!
Оказывается, в сознании критика стихи окончательно расщепились на текст и подтекст, что, в сущности, рано или поздно с ним должно было случиться. Через неделю ему удалось переправить из психбольницы коротенькую открытку, написанную второпях химическим карандашом. Он рекомендовал редакции, включив КГБ в поиски подтекста, обыскать квартиру автора в Москве и квартиру его родственников в Астрахани, откуда тот был родом. По словам критика, успех операции мог обеспечить только одновременный обыск в обеих точках, при этом именно по московскому времени, а не по астраханскому. В последнем случае все может развалиться.
— Я свел с ума десять женщин и одного критика! — гремел по этому поводу наш поэт.
— Уполовинься! — с хохотом отвечали ему на это друзья.
— По-вашему, правдоподобней звучит, — невозмутимо гудел в ответ наш друг, — пять женщин и полкритика?
Однако книги его по-прежнему не печатались, хотя издательские начальники не решались назвать его антисоветчиком. Во-первых, антисоветчины действительно не было, а потом, политически было нецелесообразно подталкивать его в ряды антисоветских писателей, которых становилось все больше и больше по той простой причине, что их почти перестали арестовывать, хотя и не начали печатать.
Поэтому на рукописях его стихов, попадавших на глаза начальству, значилась бабья резолюция: «Надо годить». Вот и годили десятилетиями.
А если же он сам попадался на глаза начальству, годить приходилось еще больше. С одной стороны, огромный, как богатырь, а присмотреться — рыхловатый. С другой стороны, горящие, черные цыганские глаза под густыми черными бровями. Но цыганские ли это глаза, мучительно думали литературные начальники.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу