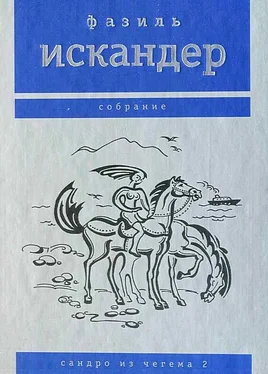Оказывается, Абесаломон Нартович и товарищ когда-то вместе учились в институте. Это, как я заметил сейчас, придавало их отношениям оттенок осторожного панибратства. Не отцепляясь от привязи своих сегодняшних должностей и не слишком натягивая эту привязь, они время от времени подходили к зоне студенческих воспоминаний, вынюхивали оттуда какое-нибудь усохшее событие и, выразив вялые восторги по поводу его благоухания, возвращались в обозримую повседневность.
Оркестр заиграл песню «Жил горный тур в горах Кавказа…», и наш знаменитый певец, стоя на скальном уступе, пропел ее в ритме танго. Он ее пел во всех танцевальных ритмах.
— Надо поддержать эту песню, — сказал товарищ из министерства, слегка поклокатывая от амбиции, — хорошо схвачена наступательная сущность…
— Так поддерживаем, — согласился Абесаломон Нартович, следя за танцующими, — всюду поют… Даже по «Маяку» передавали…
— А вы что скажете? — не разворачиваясь, а только повернув голову на высокой толстой шее, уставился он на меня очками.
— Я — ничего, — сказал я, стараясь изо всех сил быть лояльным к песне о козлотуре. Но, так как я не мог быть к ней лояльным, а внутренний цензор сосредоточился на формальном значении моего ответа, мое истинное отношение затаилось в интонации кроткого издевательства, которое я не сразу осознал, а осознав, уже не мог перестроиться.
— Должно же у вас быть какое-то свое мнение, — сказал он, теперь уже клокоча от сдерживаемой ярости. И тут вдруг я понял, что он уже где-то нализался. Он плохо контролировал себя: ярость выплеснулась раньше, чем я успел ему подбросить повод.
— Было мнение, — сказах я тоном человека, который без настоятельного приказа никогда и не стал бы высказываться перед таким значительным лицом.
— Так давайте же, — поддержал он меня благожелательно с надеждой, что я наконец подброшу повод душащей его ярости, — или вы согласны, или вы…
— Забыл, — сказал я сокрушенно.
— Что забыл?! — спросил он, багровея и теперь уже поворачиваясь ко мне всем туловищем.
— Мнение, — как можно проще сказал я. Я почувствовал удар ногой под столом. Абесаломон Нартович напоминал мне о своем нежелании рисковать субсидиями.
— Оставь, он, видать, из засранцев, — по-абхазски сказал мне дядя Сандро, более откровенно передавая желание Абесаломона Нартовича.
Несколько секунд мы с представителем министерства смотрели друг другу в глаза.
Сколько можно отступать и уступать, мелькнуло в голове, он прекрасно знает, что может думать нормальный человек обо всех этих кампаниях и песнях, воспевающих эти кампании. Так что же ему надо узнать? Выяснить степень страха перед ним, получить истинное эстетическое наслаждение этим страхом и заручиться этим же страхом для проведения будущих кампаний — вот что ему нужно…
Несколько секунд мы смотрели друг на друга, и внезапно он опустил глаза. И не только опустил. Одновременно с этим, как-то угрюмо надувшись, он сделал самое неожиданное, но и самое точное, как я потом понял. Он тихо протянул руку и убрал с моей рубашки какую-то соринку, может быть, символическую. Это был великолепный семейственный жест, жест признания, кровного родства, протягивающего руку над любыми спорами, тайно извиняющийся жест. Жест, как бы говорящий: конечно, в споре я мог погорячиться, но ты видишь, когда дело доходит до реальной пылинки (волосинки, соринки) на твоей рубашке, тут я запросто протягиваю руку и снимаю, сдуваю или стряхиваю эту зловредную пылинку.
Я всегда подозревал, что тут действует тот самый закон: кто кого оттянет. Мои подозрения полностью оправдались. Конечно, это было рискованно. Но, по-видимому, он решил, что у меня есть какая-то спина, что недаром ко мне Абесаломон Нартович хорошо относится.
На самом деле, симпатии Абесаломона Нартовича ко мне объяснялись тем, что я один знал его тайное призвание и ценил именно это в нем. Он, в сущности, балагур, настоящий народный сказитель, и, чуть бывало разойдется за столом, мгновенно забывает тот неписанный устав, по которому он во внеслужебных разговорах должен жевать все те же опилки.
Он хорошо рассказывал всякие истории из народной жизни, и этот дар его во время любого застолья прорывался безотчетно, как и всякий дар, несмотря на то, что в местных идеологических кругах эту его привычку недолюбливали.
Бывало, расскажет историю про какого-нибудь головореза-абрека, со всеми смачными подробностями его быта, а потом, вспомнив про свою должность, добавит:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу