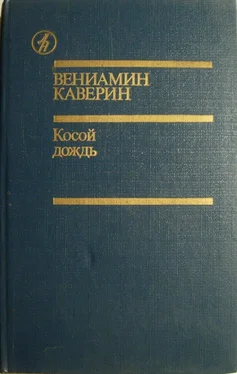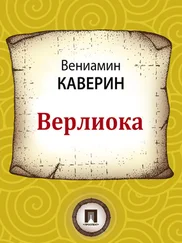— На конкурс подавать не будем.
Если прежде паузы были недоумевающие, неловкие, неопределенные — новую можно было назвать оглушительной: Врубов и Осколков, как в музее восковых фигур, застыли в позах крайнего негодования.
— То есть как не будете?
Коншин снова промолчал.
— Вы хотите сказать, что все ваши сотрудники намерены уволиться из Института? — спросил Осколков.
— Да, намерены. Если приказ не будет отменен.
Врубов с бешенством ударил кулаком по столу.
— Ни при каких обстоятельствах я этого не сделаю! — закричал он. — Я гарантировал президиуму восстановление отдела, но не давал обещания отменить приказ. Об этом в постановлении нет ни слова.
— Если не ошибаюсь, в военном уставе записано, что приказ, заведомо бессмысленный или наносящий очевидный урон, подчиненный выполнять не обязан, — возразил Коншин. — Наш разговор, полагаю, закончен?
Он поклонился и вышел. Вернувшись в отдел и отмахнувшись от валерьянки, которую ему снова предложили, он со смехом, правда несколько нервным, рассказал сцену в директорском кабинете. Его горячо одобрили.
— Ага, я же говорил! — воскликнул Левенштейн. — Ни слова?
— Как будто воды в рот набрал.
— Прекрасно! Это скандал, а на скандал они не пойдут.
— Чем черт не шутит, может быть, теперь-то все наладится? — задумчиво сказала Ордынцева. — Поговорю-ка я еще раз с Саблиным. От него многое зависит...
Прошла неделя. Все замерло, остановилось. Втихомолку сотрудники других отделов поздравляли Коншина с победой. Он с досадой отмахивался — не слишком-то заметны были плоды этой победы.
Все действительно замерло, оцепенело. Но в самом отделе работа продолжалась. Более того, сопротивление встряхнуло отдел, и если бы этого не случилось, быть может, не возникла бы необходимость уйти от самоповторения, обновить идеи. Коншин считал, что критический возраст, после которого любая лаборатория начинает терять свою новизну, оригинальность, — десять, пятнадцать лет. Потом начинается плато — равнина, возвышающаяся высоко (или не очень высоко) над морем науки. На этом-то плато и произошла схватка, в сущности бессмысленная, но как бы подхлестнувшая ту стимуляцию лучшего, которая естественно определяет весь ход научного мышления. Но обстановка надолго осталась сложной.
Новая работа Коншина, задуманная в тревожные дни, широко развернулась, опрокинув немало устоявшихся представлений и показав всю значительность «случайных» результатов, которые до той поры не получили объяснений.
И Петр Андреевич с головой ушел в работу — это был волшебный источник, исцелявший от всех горестей, обид и разочарований. За те потерянные часы, недели, месяцы, когда врубовская история «оттащила» его от лаборатории, в науке, которой он занимался, произошли значительные перемены. Он не боялся, что его опередили, это было невозможно. Задача, которой занимался он и круг ближайших сотрудников, должна была казаться — и казалась — почти фантастической, слишком рискованной, ненадежной. Но перемены произошли, и он не мог не считаться с ними.
Никогда прежде сотрудники с такой аккуратностью не ходили на работу. Мария Игнатьевна, долго путавшаяся в мелочах, вдруг поняла, что как раз от этих-то мелочей и надо идти вперед, — и впереди, еще в тумане, мелькнуло что-то похожее на открытие.
Тепляков — это было замечено всеми — стал проводить на лестнице вдвое меньше времени и вопреки настояниям Коншина продолжал ходить в Институт, хотя его астма ухудшилась и он легко мог взять больничный лист.
Ровно в девять утра маленький энергичный Володя Кабанов решительными шагами входил в лабораторию и принимался за дело. Девушки теперь почти не звонили ему, а когда звонили, он говорил с ними недолго и по-командному кратко. С его точки зрения, стало даже лучше, что отдел попал в «состояние невесомости» и как бы почти не существует. Ведь от несуществующего отдела нельзя требовать, чтобы сотрудники теряли время на никому не нужные комиссии и заседания.
Лучше не было, каждую минуту можно было ожидать, что станет хуже, но, как ни странно, сквозь толщу равнодушия, стремления показать полную лояльность по отношению к дирекции, сквозь приказ, поставивший отдел в унизительное положение, стали мало-помалу пробиваться токи симпатии, сочувствия, внимания. Если взять весь огромный Институт в целом, он, без сомнения, был на стороне упорствующего отдела. Понимали ли это Осколков и Врубов? Трехмесячный срок конкурса давно прошел, и никто не подал заявление на освободившиеся вакансии. Это было естественно, слух о скандальной истории разнесся широко, и никому не хотелось унижать себя, подавая заявление на «живое место».
Читать дальше