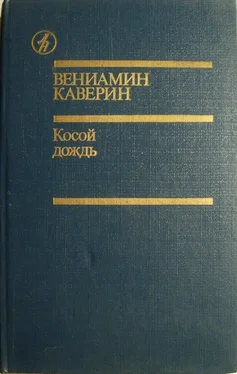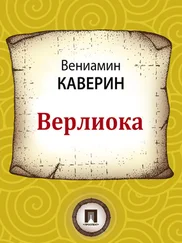Это может показаться странным, но, прочитав «опровержение», напечатанное в газете «Научная жизнь», я вспомнил Ленинград осенью 1937 года. Город был охвачен каким-то воспаленным чувством неизбежности, ожидания. Одни боялись, делая вид, что они не боятся; другие — ссылаясь на то, что боятся решительно все; третьи — притворяясь, что они храбрее других; четвертые — доказывая, что бояться полезно и даже необходимо. Я зашел к старому другу, глубокому ученому, занимавшемуся историей русской жизни прошлого века. Он был озлобленно-спокоен.
— Смотри, — сказал он, подведя меня к окну, из которого открывался обыкновенный вид на стену соседнего дома. — Видишь?
Тесный, старопетербургский двор был пуст. К залатанной крыше сарая прилепился высокий деревянный домик с лесенкой и длинным шестом. Голубятня? Но и домик был безжизненно пуст.
— Ничего не вижу.
— Присмотрись.
И я увидел — не двор, а воздух двора, рассеянную, незримо-мелкую пепельную пыль, неподвижно стоявшую в каменном узком колодце.
— Что это?
Он усмехнулся.
— Память жгут, — сказал он. — Давно — и каждую ночь.
И он заговорил о гибели писем, фотографий, документов, в которых с невообразимым своеобразием отпечаталась частная жизнь, об осколках времени — драгоценных, потому что из них складывается история народа.
— Я схожу с ума, — сказал он; — когда думаю, что каждую ночь тысячи людей бросают в огонь свои дневники.
Казалось, давно забылись, померкли в памяти эти дни, пустой двор, запах гари, улетевшие голуби, легкий пепел в лучах осеннего солнца! Но как на черно-белом экране, вспыхнула передо мной эта сцена, когда я подумал, что вслед за «опровержением» все бумаги по снегиревскому делу будут брошены в мусорный ящик.
Я позвонил Кузину.
— Вам они больше не нужны. А мне — кто знает, — может быть, пригодятся?
И он привез мне несколько толстых папок, битком набитых запросами, доносами, справками, докладными записками — сотни страниц, полных злобы, скрытой ненависти, откровенного страха. Не надо было обладать дарованием историка, чтобы понять, с какой отчетливостью отразилась в этих бумагах шаткая, ломающаяся атмосфера начала пятидесятых годов. Мало сказать, что это было интересное чтение: я не мог оторваться от энергично, неустанно развертывающегося зрелища борьбы между кривдой и правдой. Здесь можно было найти и поражающую замкнутость душевной жизни, и ненависть к самой природе новизны — и скромную смелость людей, давно нашедших свою дорогу. За каждым письмом угадывался человек, как бы вписанный в картину десятилетия. Это был целый мир, внезапно раскрывшийся, меняющийся, необъясненный, требующий участия и разгадки.
Иван Александрович был недоволен тем, что Остроградский опоздал, потому что придавал его встрече: с Гладышевым особенное значение. Анатолий Осипович понял это сразу — и не только потому, что у Кошкина был непривычный торжественно-взволнованный вид. Квартира на Тверском бульваре, обжитая, уютная и все же напоминавшая чем-то запущенную дачу в Лазаревке, была тщательно прибрана, полы натерты, стол накрыт не в маленькой столовой, а в ярко освещенном просторном кабинете. Старушка-домработница, в лихо сбившемся набок чепце, летала из комнаты в комнату, как будто ей было восемнадцать лет, и Кошкин, распоряжаясь, шипел на нее тоже как-то по-молодому. Разговор начался хорошо, но сразу же ушел куда-то в сторону, и вернуть его в задуманную колею оказалось не так-то просто.
Анатолий Осипович не знал, почему он не рассчитывал, что эта встреча может существенно изменить его положение. Но сам Гладышев интересовал его — и глубоко. Он был деятелем, причастным к тому, что происходило на магистралях политической жизни, и это, по-видимому, не мешало ему с размахом действовать в науке. Сейчас этот человек, распоряжавшийся десятками институтов и сотнями лабораторий, слушал Юру Челпанова, которому, кажется, было почти безразлично, какое место занимает Гладышев в научной и государственной иерархии. Юра на этот раз был не в рыжем толстом свитере, а в новом черном костюме, сидевшем на нем не особенно ловко. Рассказывал он о туристском походе на байдарках вдоль какой-то порожистой реки Приполярного Урала — и Гладышев слушал его с интересом. Это и было в нем самое приятное — живой, почти детский интерес, с которым, весело щурясь, он слушал Юру. Вообще же он не очень понравился Анатолию Осиповичу — по меньшей мере в первые минуты знакомства. В нем было заметно несовпадение между тем, что он говорил, и тем, что думал, характерное для людей, не раз испытавших на других свою решительность и влияние. Он был поджарый, седой. «И, видать, не робкого десятка», — подумал Остроградский, глядя на его бледное и сильное лицо с глубоко сидящими глазами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу