— Паршивец, — только и сказал Гаврила.
Шахтеры дружно обтесывали шилья, размечали места, куда ловчее и надежнее их забить. Длинные деревянные лаги должны были перекрыть завал, распереть его стены, и тем самым обезопасить работу под его куполом. Работа спорилась.
В ушах у Виктора звучала непонятная музыка. Она рождалась внутри его, пыталась найти выход наружу, а он и желал, и не хотел этого. Дать ей волю было страшно, держать в себе — трудно. Звуки то вырастали до звенящей высоты, то замирали, и Виктор путался, что не сможет удержать их, и вместе с тем боялся, что они утихнут, замрут и опустошат душу, не оставив в ней ни чувств, ни желаний. Мелодия тонко плакала, и тогда ему хотелось бросить все, сесть на холодные камни и забыть о том, что было, не ждать того, что будет. Но в глубине этой отрешенности рождалась новая волна, им вновь овладевала жажда деятельности. Пусть затрещит, завизжит, по-волчьи завоет кровля, он не дрогнет, он обрадуется этому, он встанет на ее пути исполином и сомнет, раздавит, взнуздает ее буйство, жестоко отомстит ей.
Рустам Валеев
ВСЕ ДЛЯ РЕБЯТ
Рассказ
1
Он эту Зойку на вокзале встретил.
А что он делал на вокзале в двенадцать-то часов ночи? Может, не допил и примчался из Першино на такси — прихватить в ресторане бутылку вина? Не-е-ет, он, чудак, слышал от Гайнуллина, что Кот из Троицка, возможно, проедет к себе в часть после отпуска. Кот — некий Попирко, прозванный так за усики. Он, этот Попирко, работал прежде у Миши в бригаде, а потом ушел в армию. И вот Гайнуллин, оказывается, встретил Кота в поезде — тот ехал в Троицк к матери; он будто бы сказал Гайнуллину: дескать, отслужу и вернусь, может быть, в бригаду Борейкина.
Вот это «может быть» и смутило Мишу Борейкина, и, хотя Коту еще целый год служить, он решил встретить его на вокзале и покрепче связать этой встречей, разговором и быть уверенным, что Кот вернется через год непременно к нему в бригаду.
Кота он, конечно, не встретил, а встретил Зойку.
Она, чернавка такая, сидела себе и совсем не старалась стушеваться где-нибудь в тени. Она сидела в просторном зале из стекла и бетона, обогретом скрытыми в стенах радиаторами водяного отопления, освещенном неонами, в просторном зале с шикарными скамьями-креслами, с телефонными будками, из которых, хочешь — звони на квартиру другу в Першино, хочешь — в Иркутск или Москву. Одежда на ней была довольно жалкая на этом замечательном фоне, но вид не то чтобы заносчивый, но полный достоинства, даже не достоинства, может, а некой надежды: что, мол, все до поры до времени, и если сегодня она в жеваном пальтишке и латаных пимах с загнутыми вверх носками и в худой цветастой шали, то завтра все может обернуться по-другому; и если сегодня она грызет жесткий пряник и запивает его кипяточком из кружки, то завтра она, может, в ресторане станет эскалоп кушать и пить шампанское.
Но когда он направился к ней и она это заметила — так я себе представляю картину: сперва она зыркнула вострыми глазками на него, а затем притуманила их невесело, а когда он приблизился, то была она будто казанская сирота — вот, дескать, схлопотала себе по дурости несчастье, а теперь каюсь, но поделать ничего не могу. Эх ты, бедолага, подумал, наверно, он. Он (уж это наверняка) сказал: как это, дескать, так — в то время, когда молодежь с песнями уезжает строить города и заводы, ты сидишь в таком несчастном виде? Может, она вздохнула, может, заплакала, может, к черту его послала. Но он-то говорит, будто бы она сразу ему сказала: «Я бы тоже хотела на ударную стройку». Могу дать голову наотрез, что эти слова она сказала после того, как узнала, что он — бригадир плотников и строит стан «1050» и кислородно-конверторный цех.
Ему, я думаю, не пришлось особенно ее улещать.
Я себе вообразить не могу, как это он, скромник такой, отважился заговорить с ней. Он и сам признавался: как это я заговорил с ней — не знаю. Но то, что он этой иззябшей пичужке сказал: «Я вот на ударной стройке работаю», — это я могу вообразить картинно. И то, как она поспешно ему ответила: «Я бы тоже хотела на ударную стройку». В общем, он взял такси, посадил ее с собой и — поехали в Першино.
Да как, спрашивал я, мать-то приняла вас, не лишилась ли чувств Александра Степановна? Ведь ты, старый хрыч, неженатый, а у вас две комнаты, кроме кухни, и ты приводишь темной ночью несовершеннолетнюю смазливую пичужку. Фу, да ведь он не только не юбочник, он глядеть-то на девок смущается; уж Александра Степановна знает своего скромника, уж она не подумала, что он хаху привез темной ночью. Она, может, порадовалась еще, что сын в этаком смысле становится решительней и, возможно, женится. Возможно, не на этой пичужке, а на другой, но, может быть, и на этой.
Читать дальше
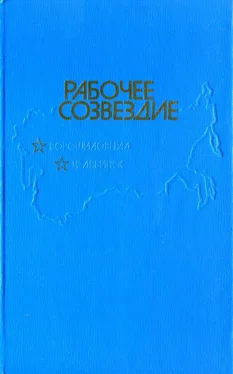
![Владимир Скворцов - Что нам Содружество 2 [СИ]](/books/35303/vladimir-skvorcov-chto-nam-sodruzhestvo-2-si-thumb.webp)

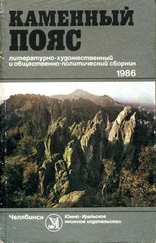

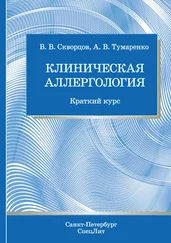
![Владимир Скворцов - Фрилансер [СИ]](/books/420206/vladimir-skvorcov-frilanser-si-thumb.webp)
![Владимир Скворцов - Корпорация «Русская Америка» [СИ-версия, с издательской обложкой]](/books/426414/vladimir-skvorcov-korporaciya-russkaya-amerika-si-versiya-s-izdatelskoj-oblozhkoj-thumb.webp)



