— Да, хлопче, ты спрашивал, что было со мной дальше… тогда из бокса шестьдесят первого блока в Ордруф я попал, в команду Эс-3. По сей день снится. Проснусь в холодном поту, сорвусь, выкину вперед сжатые кулаки и защищаюсь. Там мне и ногу отпилили. Простой ножовкой, без наркоза, как полено от бревна отпилили. Из той тысячи, что нас тогда отправили из Бухенвальда, несколько человек уцелело, в инвалидный транспорт попали, это и спасло… да что мы все про фашистов да про фашистов. Ну их всех к черту!
— К чертям фашистов! Хай воны сковородки на том свити лижут, поганые, давайте лучше выпьем, — предложил Петро.
— За богатый хлеборобский род Дубравенко, — предложил я, — пусть он продолжается вечно, до тех пор, пока светит солнце!
Все выпили. За столом стало шумно. Дубравенки оказались людьми веселыми, с юморком. Посыпались шутки, остроты.
— К чертям фашистов! — весело предложила Катруся. — Хиба мы на поминках, давайте лучше споем нашу, украинскую.
И, не дожидаясь согласия, запела приятным грудным голосом:
Ой гоп не пила,
На веселли була,
До господы не втрапила,
До сусида зайшла…
Все подтянули. Голоса густые, сочные. И полилась, заплескалась веселая, шуточная украинская песня:
И в комори и на дворе
З нежонатым удвох
Пустували, жартували,
Зопсували горох…
— Петре, поцилуй мою Настю, а я твою Ольгу, — не унимался Иван.
Петр зажмурился, закрыл глаза руками.
— Целуй!
Но Настя была серьезной, даже печальной, ее большие темные глаза сверкали непролившейся слезой, их влажная притягательная глубина, словно вспышками, озарялась чем-то ласково-нежным и сострадальчески-горьким, высокая грудь вздымалась тревожно, дыхание было прерывистым. Когда вышли из-за стола перекурить, она поставила на проигрыватель «Бухенвальдский набат». Полились гневные, скорбные и величественные звуки. Веселый смех оборвался. В комнате стало тихо-тихо. Звуки набата напоминали живым и предостерегали…
За окнами подрагивали сумерки, по саду загорались огни, а мы говорили, говорили, ели вареники в сметане, пили, похваливая, кисели и наливки, грызли моченые груши, яблоки, охлаждали желудки кавунами. Было уже поздно, когда зачихали мотоциклы и гости разъехались. Дубравенко провел меня в небольшую светлую комнатку, расцеловал:
— Це тоби, хлопче, люкс, видпочивай. А ну скажи: паляныця.
— Паляныця, — сказал я и сам удивился, как легко выговорил я это слово.
— Оце гарно. Спи, друже. Спи счастливо.
Он ушел. Но спать не хотелось. Я подошел к окну. Прислушался. Ржаво поскрипывала под окном старая груша. У нее, как и у меня, вероятно, ноют по ночам старые раны. Терся о стены намотавшийся за день ветер. Сухо хрустнула, ударившись о ледяную корку, обломившаяся ветка. Оборвалась с карниза тяжелая сосулька. Ночь была полна звуков. Была полна звуков и моя бессонная память.
Шли друг за другом. Лия несла тяжелый рюкзак, набитый мелкими, чуть больше пятака, скользкими груздями. Лямки резали ее худые плечи сквозь старенькую желто-бурую ковбойку, и нести рюкзак становилось все труднее. Она шла по густому дикому смородиннику и старалась не замечать крупные, сочные ягоды — уже набили оскомину.
Лии нравился этот лес. Нравилась смородиновая духмяность, от которой уже позванивало в голове, и эта синяя сумрачность могучих облишаенных пихт и берез, и тяжелая тишина. Ей не было тревожно, хотя она уже понимала, что заблудились и когда выйдут из этого глушняка — неизвестно.
— Куда идем? — стала ворчать шустро топающая следом мать. — Птицы даже не тренькают. Пялишь по верхам зенки-то. Уж и солнышко не видать. Вишь, вода под ногами засочилась. Простудить завела?..
Лия молчит. Рыжие конопатинки на худых крупных руках, на лице и на шее темнеют, узятся желтые глаза. Ей страшно от подступающей злости. Так страшно, что кружится голова. Она знает, что от злости этой долго будет болеть сердце, и ей невмоготу станет работать, таскать кирпичи или раствор на верх мартеновской печи.
А ругани не слышно конца:
— О, долюшка моя, доля! За что же мне мука такая? Ведь уж недолго скрипеть мне…
— Не скими! — резко говорит Лия. — Завелась! — И глаза ее сухо взблескивают. Она ускоряет шаги.
Старуха не отстает. Переваливается с ноги на ногу уточкой, кое-где приседает, задирая юбку и взмахивая пустой корзиной с ножом на дне, неуклюже прыгает через ямки с прозрачной водицей. Мелкие лягушата летят в стороны. Дрожат испитые, дряблые щеки старухи, тонкие синеватые губы собраны в узелок, маленькие серые глаза откровенно угрюмы.
Читать дальше
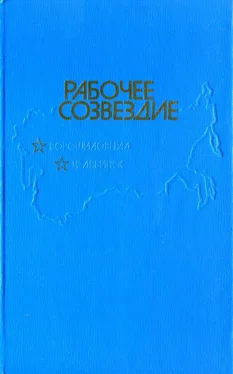
![Владимир Скворцов - Что нам Содружество 2 [СИ]](/books/35303/vladimir-skvorcov-chto-nam-sodruzhestvo-2-si-thumb.webp)

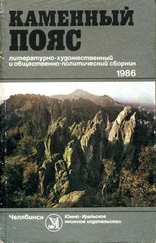

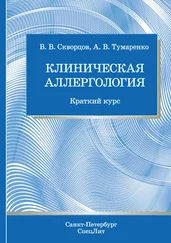
![Владимир Скворцов - Фрилансер [СИ]](/books/420206/vladimir-skvorcov-frilanser-si-thumb.webp)
![Владимир Скворцов - Корпорация «Русская Америка» [СИ-версия, с издательской обложкой]](/books/426414/vladimir-skvorcov-korporaciya-russkaya-amerika-si-versiya-s-izdatelskoj-oblozhkoj-thumb.webp)



