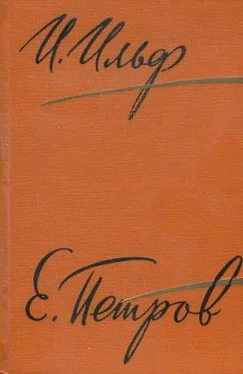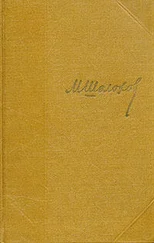«Список ли благодеяний ли?»
«Наследник ли?» или «Чей наследник?»
«Последний ли из удэге ли?»
«Севастополь ли?»
Почему он все время сомневается? Неужели он думает, что автор пытался всучить рабочему-читателю Симферополь вместо Севастополя или, скажем, Серпухов?
Да нет, ни о чем он не думает. Просто формула готова, а менять ее для какого-то попутчика не хочется. Некогда.
Начиная свою статью, первый ученик никогда не скажет: «Автор изобразил», «Автор нарисовал». Тут есть более осторожная фраза: «Автор пытался изобразить», «Автор сделал попытку нарисовать».
Привычка настолько велика, что даже о Шекспире стали писать: «В пьесе „Отелло“ автор попытался изобразить ревность». Кстати, и статья называется «Мавр ли?» И читатель в полной растерянности. Может быть, действительно не мавр, а еврей? Шейлок? Тогда при чем тут Дездемона? Ничего нельзя понять!
Если писатель, не дай бог, сочинил что-нибудь веселое, так сказать, в плане сатиры и юмора, то ему немедленно вдеваются в бледные уши две критические серьги – по линии сатиры: «Автор не поднялся до высоты подлинной сатиры, а работает вхолостую»; по линии юмора: «Беззубое зубоскальство». Кроме того, автор обвиняется в ползучем эмпиризме. А это очень обидно, товарищи, – ползучий эмпиризм! Вроде стригущего лишая.
Особенно не любит первый ученик произведений, где герои объясняются в любви, женятся и так далее. Он заостряет вопрос, он ставит его ребром: нужно ли в наши дни отображать это чувство в художественной литературе? Никакой любви нет. Позвольте! Откуда же берутся дети? Чепуха! Пожилого советского читателя не трудно убедить в том, что детей приносят аисты.
Под ударами первого ученика писатель клонится все ниже и ниже. А зубрила, бормоча (чтобы не позабыть): «Есть в нем скрытый мистицизм, биологья в нем видна», принимается за самую ответственную операцию (нечто вроде трепанации черепа) – вскрывание писательского лица. Тут он беспощаден и в выражениях совершенно не стесняется. Формула требует энергичного сравнения. Поэтому берутся наиболее страшные. Советского автора называют вдруг агентом британского империализма, отождествляют его с П. Н. Милюковым, печатно извещают, что он не кто иной, как объективный Булак-Булахович, Пуанкаре или Мазепа, иногда сравнивают даже с извозчиком Комаровым.
Все эти страшные обвинения набираются курсивом и неуклонно (такова традиция) снабжаются замечанием: «Курсив мой».
Курсив мой! Курсив мой! Мой! Мой!
Это его курсив. Курсив первого ученика.
И эти придирчивые притязания хорошо бы наконец удовлетворить.
– Не мучьте ученика, отдайте ему его вещи, пусть возьмет свой курсив и чуть-чуть поразмыслит над ним. Пусть опомнится от зубрежки.
1932
Я, в общем, не писатель *
Позвольте омрачить праздник.
Позвольте явиться на чудные именины советской сатиры не в парадной толстовке, ниспадающей на визиточные брюки, и не с благополучным приветствием, выведенным пером «рондо» на куске рисовальной бумаги. Разрешите прибыть в деловых тапочках, выцветшей голубой майке и замечательных полутеннисных брюках, переделанных из кальсон.
Конечно, легче всего было бы ограничиться шумными аплодисментами, переходящими в овацию, но все же разрешите в гром похвал внести любимую сатирическую ноту.
Дело в следующем. Не очень давно в редакцию явился довольно обыкновенный человек и предложил свое сотрудничество.
– Я, – сказал он, – в общем, не писатель. В общем, я интеллигент умственного труда, бывший гимназист, ныне служащий. Но я, видите, женился, и теперь, вы сами понимаете, мне нужна квартира. А чтобы купить квартиру, мне нужно укрепить свою материальную базу. Вот я и решился взять на себя литературную нагрузку: сочинять что-нибудь.
– Это бывает, – заметил редактор, – как раз Гете так и начинал свою литературную деятельность. Ему нужно было внести пай в РЖСКТ «Веймарский квартирник-жилищник», а денег не было. Пришлось ему написать «Фауста».
Посетитель не понял горечи этой реплики. Он даже обрадовался.
– Тем лучше, – сказал он. – Вот и я сочинил несколько юморесок, афоризмов и анекдотов для укрепления своей материальной базы.
Редактор прочел сочинения бывшего гимназиста и сказал, что все это очень плохо. Но бедовый гимназист и тут не смутился.
– Я и сам знаю, что плохо.
– Зачем же вы принесли свой товар?
– А почему же не принести? Ведь у вас в журнале известный процент плохих вещей есть?
Читать дальше