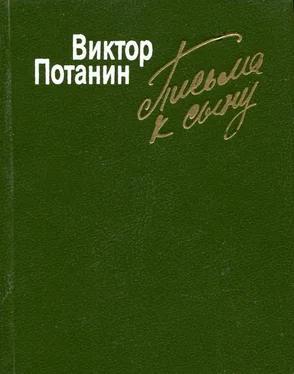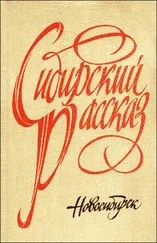Да и в твоих глазах, сын, я вижу усмешку: чудак, мол, отец. Сидит где-то у моря за тысячи километров от этого музея, а сам приводит в письмах подлинные страницы. Но как же так? Наизусть, что ли, знает?..
Ну конечно же, наизусть! А как же не знать мне нашу историю, не носить ее в себе, не лелеять, если музей этот создавала Иванова Варвара Степановна вместе с моей родной матерью. Так что ты можешь гордиться своей бабушкой Анной. Да и сама Варвара Степановна мне — вторая мать. И в школе, в нашей Утятской семилетке, я тоже учился у нее. Много дней, много лет. И эти годы принесли мне любовь. Скажи мне тогда, что нужно за свою учительницу в огонь прыгнуть, — прыгнул бы и ни о чем не жалел. Я первый из класса увидел, как она стала седеть. И как в глазах явилась темноватая зыбкая пленочка. Это от недосыпания, от забот, от усталости. Я и теперь вижу ее глаза…
Они всегда были добрые, пристальные. Порой глаза эти щурились, и тогда лицо делалось суровым и строгим. В эти минуты она расстраивалась из-за наших двоек. Но часто в глазах ее кружились веселые искорки, и мы к ней приставали:
— Вы опять письмо получили?
— Угадали, милые, угадали.
— Поди из Ленинграда письмо?
— Опять угадали! — И лицо ее прямо играло и светилось, и глаза сразу делались молодые, веселые. И нам тоже весело. Как будто из-за тяжелых туч вышло солнышко, и вот уж не остановить, не спрятать эти лучи. И их все больше, больше — и ликует душа. Ведь в любом возрасте она быстрей всего откликается на любовь. А в письмах тех — столько любви и тепла. Они приходили к ней из разных мест. По всей стране разлетелись ее воспитанники. Но особенно много писем приходило из Ленинграда. И писали их бывшие блокадные ребятишки. Во время войны в нашей Утятке был интернат, в котором жили приезжие ленинградцы.
Но иногда эти письма где-то задерживались. В такие дни Варвара Степановна ходила печальная, отрешенная. И опять в глазах проступала та зыбкая пленочка. И нам было нестерпимо жаль нашу учительницу. В эти дни она находила на своем столе букет желтых подснежников. А если такое дело случалось осенью, то мы приносили ей много-много белых ромашек. Она прятала в них лицо и приговаривала: «Век в деревне живу, а все не привыкла к ним. И ведь растут-то где попало — под забором да на обочине. А сами белые, прямо снежные…»
Цветы мы рвали за школьной оградой, в бору. Сосны подступали почти к самым домам, а между сосен — большие поляны. Часто мы приходили сюда вместе с любимой учительницей. Школа рядом, но все равно бор казался большим и таинственным. А если начинал гудеть ветер, то старые сосны гудели монотонно и жалобно, точно просили за себя заступиться.
В бору мы бывали днем, после пятого урока. Варвара Степановна уводила нас подальше, поглубже в сосны, потом мы усаживались кружком на поляне. И разговор часто начинался с загадки:
— Маленький, колючий и молоко любит?
— Ежик! — кричим мы хором и следим за ее руками. Она разрывает возле пня сухой побуревший мох и выкатывает к ногам живого настоящего ежика. Мы смеемся и не верим. Но загадки каждый раз были новые, и скоро мы научились понимать возраст любой сосны и березы, узнавать, где самые богатые грибные места… И какие птицы и зверушки водятся в наших местах. Но особенно хорошо она рассказывала про историю нашей родной Утятки. И мы поражались: откуда же она все знает, откуда?.. И про Ермака, и про хана Кучума, и про пугачевщину… И про первые коммуны на утятской земле.
— Как вы все помните? — приставали мы часто к Варваре Степановне.
— Живу долго… — смеялась она. — У старых-то память выносливей.
Она смеялась, потому что любила пошутить над собой и над собственным возрастом: нам, мол, что? Нам, старичкам, теперь — печь да полати… Она шутила, посмеивалась, а ведь ей не было тогда и пятидесяти.
Но время — вода. Да самая быстрая, вешняя. Не успеешь оглянуться, а уже виски белые… И я хорошо запомнил самый первый ее юбилей. В доме Варвары Степановны собралось тогда много народа — учителя, соседи, родия. Приехал и я из Кургана — студент-первокурсник… Разговор тогда за столом пошел вдруг о возрасте. Кто-то начал бойким уверенным голосом:
— Пятьдесят лет — это сейчас ерунда! Только-только все начинается.
— Ну почему же?! — возразила хозяйка. — Это не так… — А потом заговорила о самом тайном, заветном — и в глазах ее опять вспыхнули искорки: — Вот прожил человек долгую жизнь. И оставил после себя только добро: и школу выстроил, и сад посадил, и дороги провел, и сыновьям оставил по дому… А ведь был в деревне только плотником и только одно умел — хорошо топориком тюкать… Ну вот — пошли дальше. А потом подросли его дети и по другой линии удались — они трактор освоили и никому на нем не уступят. Отцовская-то закалка сильна! А у этих детей — тоже дети. И вот теперь примечайте: этим внукам-то уже трудно будет представить деда. Как он топориком тюкал…
Читать дальше