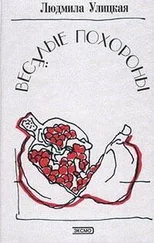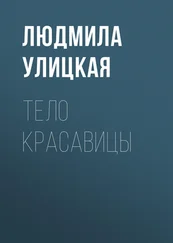В начале октября, в один из темных, но еще теплых вечеров затянувшегося бабьего лета Слава высидел себе на Тверском бульваре нового учителя. От группы темных фигур, сгрудившихся под фонарем, освежавшим шахматные доски, к нему подошел человек лет сорока в холщовой кепочке, с красивым лицом, которое могло быть еврейским, в клетчатой старомодной ковбойке. Сняв кепку с раздутого луковкой черепа, присел на край развалистой скамьи. Он весь был как будто под давлением - глаза слегка вылезали из орбит, а щетина перла со страшной силой так густо, что только на носу оставалась незаросшая поляна. Николай Романович, напротив, всегда слегка проминался, как подспущенный баллон. Подошедший уперся волосатыми кулаками в край скамьи и обратился к Славе очень свободно:
- Ваше лицо мне знакомо. Вы, простите, в шахматы не играете?
Сердце заколотилось неровно, заплясало под дурную музыку: он?
- Играю немного.
Человек засмеялся:
- Немного даже моя бабушка играла... Так, по крайней мере, она думала. Сейчас мы это проверим.
Человек вынул из кармана маленький кожаный ящичек, раскрыл. Фигуры были расставлены - остренькие штыри крепились в прорезях кожаной доски.
- Ваш ход.
Руки у Славы тряслись так, что он еле-еле смог ухватить шахматную фигуру. Он сделал первый ход Е2 - Е4... И успокоился. Сомнений не было: это был он. Шахматист выдернул легонько черную пешку на острой ножке, задержал ее между большим и средним пальцем, пробормотал:
- Так рано стало темнеть... - и вонзил пешечку в светлый квадратик.
В тот вечер шахматисту показалось, что глаза у Славы зеркально-черные, как вошедшие в моду солнечные очки, но это впечатление было ошибочным, просто зрачки были так расширены, что голубая радужная оболочка сплющилась по окружности глаза.
- Давайте-ка эту партию доиграем у меня дома... Уж больно темно.
Шахматист сложил шахматы, нахлобучил кепочку, и они пошли на троллейбус. Слава не спрашивал, далеко ли ехать. Его колотило от предчувствия, а шахматист время от времени клал ему руку то на плечо, то на колено. Доехали до Цветного бульвара, там вышли и завернули в какой-то глухой переулок. Зашли в запущенный подъезд трехэтажного дома, и, пока поднимались по лестнице, шахматист сказал, что живет с мамой, что мама была в молодости красавицей, актрисой, а теперь почти слепая и совершенно безумная.
Квартира оказалась маленькой и очень грязной. Время от времени мама подавала за стеной недовольный голос, а потом запела романс. Партию не доигрывали. Потому что была любовь. Сильная мужская любовь, о которой прежде Слава смутно догадывался. Пахло вазелином и кровью. Это было то самое, чего хотелось Славе и чего Николай Романович не мог ему дать. Брачная ночь, ночь посвящения и такого наслаждения, что никакой музыке и не снилось. У Славы началась новая жизнь...
Хоронили Валиту за казенный счет. С уверенностью никто не знает, хоронили ли вообще. Возможно, разъяли на органы, залили их формалином и отдали на растерзание тем студентам, которые окнами выходят на философов. Или другим. Но это маловероятно. Экспертиза установила, что тело пролежало дней пятнадцать - семнадцать, прежде чем было обнаружено в укромном уголке Измайловского парка гражданином спортивного вида, прогуливавшим фокстерьера.
Почему Евгения Рудольфовна подала в розыск, трудно объяснить. За сорок с лишним лет их знакомства он пропадал много раз, на разные сроки. Особенно длинным был первый. Сначала ему дали пять лет, а уж там еще добавляли, так что исчез он тогда почти на десять. Это было не по своей воле. Потом объявился, но уже не Славой, а Валитой. Такое образовалось у него прозвище. Он Евгении Рудольфовне кое-что рассказывал, но ничего такого, что могло бы ее напугать или смутить. Он ее в некотором смысле берег.
Она не то чтобы Славу любила, нет, конечно, но она любила воспоминания своей молодости и помнила, как была влюблена в светлого одухотворенного мальчика, как слушали они музыку и как страдал он от несовершенства тогдашней звукозаписи: у Караяна шесть пиано и восемь форте, а здесь все слипается... Жалко было этого бедолагу, изгоя, лишившегося всего, чего только можно было лишиться: имущества, зубов, светлых волос и московской прописки, которую он, впрочем, вырвал из зубов у жизни, женившись на какой-то пропадающей алкашке, и прописался к ней на улицу с ласковым названием Олений вал. Осталось у него от всех его богатств только редкое дарование слышать музыку да барские руки с овальными ногтями.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу