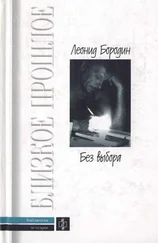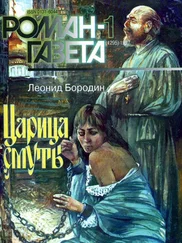Леонид Бородин - Без выбора
Здесь есть возможность читать онлайн «Леонид Бородин - Без выбора» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Русская классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Без выбора
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Без выбора: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Без выбора»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Без выбора — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Без выбора», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
И всякий, овладевший в той или иной степени искусством литературного письма, на уровне подсознания совершает выбор...
Много лет назад был свидетелем спора о моральных границах политического протеста. Тест был таков: предположим, некто, шибко недовольный властью, пришел на Красную площадь, повернулся спиной к Кремлю, сел и нагадил. В знак протеста. Помню, мнение было однозначным: "протестный фактор" не в счет. Элементарное хулиганство.
В литературе нынче полно любителей погадить. К тому же ненаказуемо... Полно таковых в театре, в кино... Или, к примеру, шоу на канале "Культура" под названием "Секс - двигатель культуры" - как раз из разряда мелкого хулиганства-пакостничества...
Но совсем другие проблемы волновали меня, когда увлекся "писательством" всерьез.
По мере моего (не без сопротивления разума) врастания в православную традицию наклевывалась, вылуплялась в сознании другая проблема: роль литературы вообще в радостях и бедах народных; степень соотносимости литературного фантазирования с истинами национальной религии; анатомирующий момент литературного мышления и его взаимоотношение с синтезом бытия основной составляющей любой мировой религии.
Ну и наконец, конкретно: роль русской литературы в трагедиях ХХ века. Кто-то удачно перефразировал известное изречение относительно особенности русского патриотизма: "У всех народов есть своя литература, но только у нас - русская литература!" И верно ведь. Ни в одном народе литература не играла такой роли в формировании общественных отношений, нигде не была она столь откровенно политизирована - поначалу, так сказать, по доброй воле, а потом и откровенно на потребу победившей в России идеологии.
Сколь ни замечательны были достижения литературы в коммунистический период, сколь ни велико ее значение в сохранении языковой традиции- другой фактор или момент был настораживающим и тревожным. Мы, кто понимал неизбежность коммунистического развала, но надеялся на "разумность" этого процесса, что не коснется он самой сути русского государственно-народного бытия, мы видели в советской литературе последних десятилетий этакую "косметическую составляющую". Тот самый критический фактор, стимулятор миллионности тиражей и повальной увлеченности общества новинками отечественной литературы, он, этот фактор по совокупности работал более на нигилизацию общества, нежели на мобилизацию гражданственного сознания, когда единственно можно было избежать смуты со всеми ее последствиями. Справедливо реагируя на социальные пороки, литераторы волей-неволей как бы перехватывали проблему, беллетризировали ее, переводя из сферы гражданской воли в стихию культурно-эмоциональную, где она и застревала беспоследственно, выпадая затем в осадок в виде хохм Жванецкого и его команды. То уже были веселые похороны социальной проблемы...
Нет ничего более чудовищного, чем хохот народа по поводу собственной несостоятельности. Но ведь даже формулу сочинили, что, дескать, пока мы способны смеяться над собой - мы живы. Неправда. То судороги пораженной проказой нигилизма гражданственности. То хохот полупокойников.
Я склонен иначе оценивать факт, коим мы столь горды: что русские самый "читающий", самый "библиофильный" народ в мире.
Всякий отмеривает по себе, будучи, возможно, и не правым в таковом "отмеривании". Но если б в детстве и юности не был я столь "проказно" поражен страстью к чтению, скольким бы полезным вещам мог обучитьсярассуждение в духе протестантизма... Но ведь я так хотел стать штурманом дальнего плавания!..
У Ключевского есть одно прелюбопытнейшее замечание относительно происхождения русской интеллигенции. Не из гнезда "птенцов Петровых" выводит он русского интеллигента, как это у большинства славянофилов, а из монастырей. Монах-книжник, а затем и мирянин-книжник, судящий о жизни не по самой жизни, но по книжным описаниям ее, - вот первый русский интеллигент, тот самый, что в конце ХIХ века уже видится членом некоего клана, характеризуемого идейностью своих задач и принципиальной беспочвенностью оных идей.
И тут напрашиваются несколько вопросов.
Литература, если вынести за скобки фактор творчества как некую общепризнанную самоценность, способствует устремлению человека к идеальному бытию или отвлекает его образцами фантастических, то есть попросту выдуманных сюжетов, сколь бы ни претендовали эти сюжеты на обобщение и типизацию?
Легко заметить, что реальное влияние на поведение людей имеет малохудожественная литература. "Что делать?" Чернышевского, "Мать" Горького и тому подобные, социально ангажированные продукты литературного труда, разве идут они в какое-нибудь сравнение по мобилизационности своей с романами Достоевского, положим, каковые лишь увеличивают количество "роковых" вопросов к сути человеческого бытия, но ответов не только не дают, но, более того, ставят под сомнение ранее предложенные ответы. Иначе говоря, литература - она только для души или также и для духа?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Без выбора»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Без выбора» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Без выбора» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.